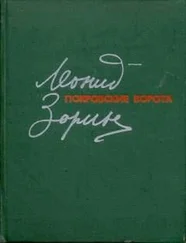Сейчас меня хватило лишь на горький вздох, было ясно, что старики давно уже лежат в этой бурой, почти лишенной растительности земле, лежат, так и не дождавшись того, кого они каждый божий день выходили встречать.
Проводница зашла ко мне предложить чаю. Я отказался. Я решил выпить винца. У каждого настроения есть свой стиль, моя дорожная тоска требовала именно этого обрамления. Проводница была немолода и лукава. Ее золотой зуб насмешливо сверкал в сумерках. Мы разговорились, и она сразу же рассказала мне, что ей уже пятьдесят три, что на транспорте она с пятнадцати лет, отстучит еще два года, а там и пенсия. Жизнь ее сложилась не слишком весело, один муж был убит в Померании, другой умер от рака печени, трое детей тоже умерли, и осталась она одна-одинешенька. Меня, однако же, поразило, что обо всех этих горестях она рассказывала не то чтобы весело, но с каким-то ощутимым юмором. «Я женщина ходовитая», – сказала она о себе.
Потом, когда я сидел в вагоне-ресторане в компании двух офицеров и пытался разжевать шницель, я мысленно задавал себе вопрос: что значит эта веселость? Подсознательная защита от бедствия? Легкомыслие? Толстая кожа? Или необходимая сила жизни, которая гудела в этом на диво крепком ширококостном теле?
Так или иначе, я ей позавидовал. Я никогда не нравился сам себе и, уж во всяком случае, не хотел находить в своих слабостях сильные стороны. Моя богатая натура еще никому не принесла радости, не потому ли я сижу сейчас совсем один, слушаю обрывки чужих разговоров и единоборствую с этим твердым, как камень, куском мяса?
Выпил я больше обычного в тайной надежде, что это поможет мне скорее вздремнуть, но расчеты мои не оправдались. Поезд летел с большой скоростью, через десять лет эта скорость будет, должно быть, утроена и в нашей жизни будет все меньше необходимых пауз. Я взялся было за книжку, но быстро ее отложил. Чтение – достойное занятие, когда мы читаем, нам кажется, что мы думаем, но ведь на этот раз меня и в самом деле одолевали самые разнообразные мысли.
И ночью, которую я провел почти без сна, и весь долгий следующий день на своем диванчике, в коридоре у окна, в тамбуре я то и дело возвращался в свой город и говорил, говорил с Иваном Мартыновичем, задавал ему вопросы, припирал его к стенке, загонял в угол, соглашался, спорил, уступал и не уступал.
День перевалил за свою первую половину, воздух за окном стал лиловеть, за темнеющими далекими лесами уже угадывался конец дороги. И чем ближе была Москва, тем беспокойней становилось у меня на душе, точно мне необходимо было выяснить нечто важное, причем немедленно, сейчас, и я метался в своей удобной коробочке, и выбегал в коридор, и шагал взад-вперед, взад-вперед, и продолжал свой диалог с мертвецом.
Что ему дал этот городок, в котором он провел свои лучшие годы? Покой? Но где же этот покой? Его рукопись – это крик в ночи, это зов на помощь. Сосредоточенность? Но человек, столь погруженный в свой мир, обрел ее уже давно. Быть может, он совершенствовал себя, изгонял из себя демона честолюбия? Но это смирение носило слишком уж подчеркнутый характер, оно выглядело почти демонстрацией. В этом самоограничении была какая-то сладкая горечь, упиваться ею – сомнительное занятие для мудреца. Быть может, его привлекал в Ц. здоровый нравственный воздух? Но нет, он был слишком умен, чтобы верить, что нравственность избрала своей обителью маленькие города. К тому же в этом умиленном прославлении провинциальной патриархальности таится нечто безнадежно плоское. Да и все уже было! Сколько их отшумело за прошедшие два века, комедий и драм, романов и рассказов, статей и рефератов! И всюду одно и то же, – развратная, низкопоклонная столица и благонамеренная надежная периферия.
Но Иван Мартынович не думал так просто сдаваться.
– Бесспорно, – отвечал он мне, – я не нашел в Ц. убежища, но почему вы решили, что я его там лекал? О демонстрациях я тем паче не думал. Они, как минимум, требуют зрителя, а перед кем мне было демонстрировать свое решение?
– Перед самим собой, – говорил я.
– Пусть так. Но это уже не демонстрация. Я искал для себя тех условий, в которых моя натура не смогла бы сыграть со мной дурной шутки. Вы говорите о самоограничении? Но самоограничение не всегда насилие над собой, иногда оно предупреждает такое насилие. Я должен был выйти из гонки, не рваться к финишу, задыхаясь от напряжения, и тогда я мог рассчитывать на естественность моей жизни. Вам не приходило в голову, что естественность – первооснова морали?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу