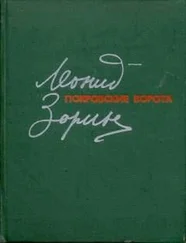– Когда вы будете в Москве? – спросила она.
– Завтра вечером.
– Только-то? Почему вы не полетели?
– Сам не знаю. Действительно глупо.
Чуть помедлив, я добавил:
– Не тащить же вас было в аэропорт.
Она принужденно улыбнулась.
Я посмотрел на циферблат. До отхода поезда оставалось пять минут. Я понимал, что должен что-то сказать, и, верно, она ждала моих слов, и эти слова вовсе не были бы насилием над собой, но я все не решался их произнести. Как часто я задумывался над этой странной загадкой: почему чуть не с детских лет мы давим в себе то, что просится наружу? Что удерживает нас сказать то, что мы чувствуем? Быть может, мы боимся зависимости, которая возникает от признания? Но разве мы не ощущаем ее тогда, когда молчим? Сколько раз эти непроизнесенные слова могли сделать счастливее нас и тех, кого мы любим! Сколько раз наша скованность или скованность ближних рождала в нас ту неудовлетворенность, тот горький осадок, которые стали нам спутниками и способны отравить наши лучшие минуты. Как легко мы размениваем слова-монетки, слова-кругляшки, но с какой мукой дается нам каждый искренний звук. Нет ничего глупее версии, что молчание – тот золотой запас, который обеспечивает цену слова. Мы создали глубоко книжный образ малоречивого героя, который безмолвствует якобы по причине своего чрезмерного духовного богатства. Мы так усердно подчеркивали все подлинные и мнимые достоинства молчунов, что постепенно приучились их уважать. Никому почему-то не приходит в голову, какими неуместными и оскорбительными могут быть эти многозначительные паузы. Между тем безмолвствующие люди могут быть так же несносны, как безмолвствующие народы. Теперь, когда мне уже не семнадцать и невозмутимый шкипер с трубкой в зубах перестал быть моим недостижимым идеалом, я не тороплюсь пропеть оду молчанию. Я хочу, по крайней мере, убедиться, что я не прославляю немоту.
Все эти мысли лихорадочно проносились в моей голове, а мгновения меж тем текли, и проводница жестом показала мне, что пора подняться в вагон. И тогда я неловко обнял Нину Константиновну – при этом цветы в правой руке сильно меня стесняли – и поцеловал куда-то в крохотное местечко над верхней губой. Она ответила таким же неуверенным, слабым поцелуем.
Надо было идти.
– До свидания, – сказал я, – до свидания. Я позвоню вам в тот же вечер… Вы будете дома?
Лицо ее было белей, чем обычно, белыми были даже скулы, которые почти всегда краснели в минуту волнения.
Наконец она сказала:
– Постарайтесь быть счастливым.
И тут же поезд тронулся. Я стоял в тамбуре, мешая проводнице, и вовсю размахивал цветами, и улыбался глупо и напряженно, внутренне презирая себя за эту улыбку.
Некоторое время она шла вслед за поездом, потом отстала и замерла на месте, и фигурка ее все уменьшалась и уменьшалась, пока совсем не исчезла из виду.
Вновь за вагонным окном мелькали пристанционные строения, вновь бежали рядом десятки железнодорожных путей, переплетавшихся самым причудливым образом, а потом они точно ушли в землю, а земля вдруг вытянулась в тугую струну, и остался только один наш путь, он дрожал и гремел под колесами.
Я стоял у окна в коридоре, покамест не стемнело. Сначала пролетали знакомые платформы – на них еще распространялась власть моего города, потом пошли другие названия, и каждое из них приближало меня к Москве.
С некоторой грустью подумал я о своем возрасте. Дело в том, что я не мог не сравнивать мысленно свою поездку в столицу двадцать лет назад с этой, двадцать лет спустя. Бог мой, каким незамутненным было мое сознание. Каждая новая станция вызывала у меня острый интерес, каждое имя таило в себе неизвестность, порождало догадки и самые поразительные ожидания.
Теперь все обстояло иначе. Дорога была хорошо знакомой, и те или иные ее выступы будили прежде всего мою память. Сколь это ни грустно, я оброс воспоминаниями, как обрастают вещами. И оттого все мои дорожные впечатления приобретали несколько однообразную элегическую окраску.
И когда поезд медленно покидал маленькую станцию в Донбассе, я тут же вспомнил оранжевый закат над этой коричневой потрескавшейся землей и странную чету у переезда – высокого белоголового старика и его крохотную иссохшую подругу. Вспомнил, с какой страстью и тоской они вглядывались в набиравший ход состав, вспомнил себя, худого, смуглого, с нетерпеливо блестевшими глазами, взбудораженного тем крутым поворотом, который свершала моя судьба, чуть не пьяного от предстоящей встречи с Москвой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу