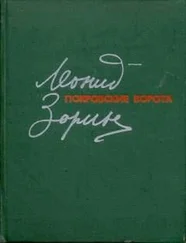Разумеется, в ней присутствовала еще одна грань – кавказец показывал, какой он преданный сын, а хороший сын не может быть дурным человеком.
Так думал я тогда, и мне даже приносили некоторое удовлетворение мои аналитические способности.
И вот сегодня я подумал, что, может быть, я их переоценил. Все могло быть проще и горше. В этот час, когда в его жизни начиналась новая и страшная пора, он невольно искал защиты у той, у кого искал ее сорок лет назад, когда его обижали сверстники или когда, споткнувшись, он в кровь разбивал коленку. И последний крик с воли, последний зов, прежде чем его уведут с этих шумных улиц в темную тишину, был к ней, снова к ней.
Через несколько часов я расстался со своим приятелем, в тот день мы пообедали вместе.
– Он уже в камере, – сказал следователь вместо прощания, – санпропускник он уже прошел.
Отчего сейчас, сидя перед розовой плитой, под которой лежал отец, я вспомнил этот отдаленный годами день? Поняв, я лишь мысленно подивился, до чего же прав был Иван Мартынович.
Вот и здесь, независимо от возраста, похоронены дети. Они лежат здесь, старые и молодые, успокоившиеся в свой срок и до срока, но все они были так же не защищены и зависимы, так же открыты ударам и ранам в час своего конца, как в час своего рождения.
Ребенком был матросик из почетного караула, потерявший сознание. Никто не хотел понять, что он ребенок, на него нацепили морскую форму, белый берет с дурацким помпоном и дали в руки ружье, которое, в отличие от игрушечного, могло и выстрелить.
Ребенком был и популярный поэт со своим личиком испуганного воробышка, никто не хотел понять, что он все еще играет в свою игру, с ним разговаривали как со взрослым, как взрослого возносили или бросали.
Да и одного ли его?
Море переливалось всеми красками, точно в него опрокинули радугу. Коричневое у берега, зеленоватое чуть дальше, оно, уходя к горизонту, становилось попеременно фиолетовым, лиловым, карминовым, солнце размалевало его во все цвета. В небе пророкотал реактивный самолет, и долго еще тянулся за ним по небу белый хвост.
Тишина, повисшая над могилами, стала неправдоподобной. Чтобы как-то ее потревожить, я произнес вслух давно полюбившиеся мне строки:
Стали кони. Кончилась работа,
Смертные доделались дела.
Я удивился тому, как слаб и тих мой голос. Ничто не шелохнулось вокруг. Тишина была неколебима.
«Что же реально? – подумал я. – Моя плоть, мои слезы, моя неверная память или эта всевластная тишина? Буддизм учит, что первопричина наших страданий – неудовлетворенные желания, что, избавившись от них, мы обретаем ту гармонию, которая и есть счастье. Но разве не желания суть мое человеческое? Разве не они давали мне радость надежд и богатство печали? Отказаться, отказаться, да ведь всю жизнь я только и делаю, что отказываюсь. От честолюбия, от любви, от ожиданий».
И все же как быть с этой тишиной? Ее еще никто не переспорил, и цепляние за молодость, за былое значение, за место в жизни достаточно бессмысленно – тишина обладает способностью улыбаться. Глупо вести дневники, коллекционировать свидетельства былых успехов, ощущая на себе эту ироническую улыбку.
Нет ничего грустнее, чем читать о красавицах былых времен. Мемуаристы должны бы нас пощадить. Есть мера жестокости и для летописцев. Читать об этих пылких созданиях, о том, как их любили, ласкали, как из-за них сходили с ума, стрелялись на поединках, вешались! Об этом тяжело думать, даже если эти обольстительницы мертвы, но как это вынести, если они еще живы! Мы привыкли плакаться, что жизнь коротка, но удивительно, быть может, не это прискорбное обстоятельство, а как раз то, сколько может вместить эта мгновенная жизнь.
Где-то, под чужим европейским небом, похоронена Евдокия Коновицер. Когда в 1940-м немцы вошли в Париж, она была жива, несмотря на годы и нищету. Очень скоро гестапо отправило ее в концлагерь, и в 43-м в каком-то бараке уже на девятом десятке она умерла. Вспоминала ли она в эти последние часы, что далеко-далеко, в прошлом веке, в другой стране, в другой ее жизни была Москва и белый снег в Хамовниках, и милый дом на Садово-Кудринской, где жил влюбленный в нее Чехов, а сама она была прехорошенькой Дунечкой Эфрос, и Чехов сходил с ума, и просил руки и сердца, и таял на глазах, а она отказывала, не хотела креститься, боялась его семьи, и брак не состоялся, а он еще долго не мог успокоиться и носил в сердце обиду. И где, она – Москва, сорок сороков, колокольный звон, малиновые закаты, Татьянин день, свежие книжки «Русского богатства», рефераты, концерты, встреча нового века, мхатовские премьеры, где ее муж-издатель, где поклонники, литераторы и музыканты?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу