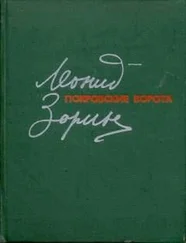Торжественные и молчаливые, мы шли к бульвару.
– Ну, рассказывай, – попросил я, – как все сложилось?
Рассказ Оли, как я и предвидел, отличался краткостью. Она никогда не была речиста, и годы не прибавили ей этого качества, порою не бесполезного. Что она стала фармацевтом, я уже знал. Научного работника из нее не вышло, хотя она, по ее словам, ощущала склонность к труду исследователя и, избирая фармакологию делом жизни, втайне мечтала создать какую-нибудь счастливую панацею. Впрочем, она еще не поставила на себе крест, думает о заочной аспирантуре, а сейчас посещает курсы английского языка. Это не так просто, день ее заполнен до отказа, много времени отнимает работа, а еще больше – обязанности по дому. Тут она, чуть помедлив, перешла к своей личной судьбе.
Почти сразу я почувствовал, что Оля не разрешает себе углубляться в эту тему. Замуж она вышла уже давно, восемнадцать лет назад; муж ее – очень, очень порядочный человек, всецело преданный семье, но от природы весьма болезненный, нуждающийся в бдительном присмотре. По образованию он врач-терапевт, но сейчас отошел от практической работы и трудится в органах здравоохранения. Последнее обстоятельство, видимо, сильно облегчало ему проблему лечения, ибо он, как я понял, часто и охотно ложится в больницы на всевозможные исследования с профилактической целью. Оля пережила большую трагедию – несколько лет назад она похоронила шестимесячную дочь, и теперь все ее заботы сосредоточены на первенце, который в этом году кончает школу. По обыкновению со смущенной улыбкой она негромко произнесла:
– Он на два года старше тебя… тогда…
Я усмехнулся, да, он старше – когда мы начинали дружить, мне было пятнадцать. Она осторожно спросила меня о моих делах, я нехотя отвечал. Чтобы осветить историю моего брака, мне хватило одной фразы.
– Кто присматривает за мальчиком? – спросила Оля.
Я коротко рассказал о Марии Львовне. Она задумалась.
– Должно быть, она внушает Сереже немало вздора, – сказал я после некоторой паузы.
– Кто знает, – сказала Оля. – Я не знаю, что нужно внушать и как нужно воспитывать. Сама я, наверное, плохой воспитатель, но мой Виктор любит меня. В этом я убеждена. Это, конечно, не помешает ему уйти.
– Ну вот, – сказал я, – с чего ему уходить?
– Ты не понимаешь, – вздохнула она, – твой Сережа слишком мал. Через несколько лет…
Она недоговорила.
Я не стал с нею спорить. Я отлично ее понимал. Больше того, мысль, что в один прекрасный день Сережа отличнейше станет обходиться без меня, была из тех мыслей, которые не давали мне покоя. Шутки Бурского не спасали положения. «Ты прав, – говорил он мне с подчеркнуто серьезным видом, – опаснее всего, что вскоре он соблазнит какую-нибудь девицу и должен будет на ней жениться как честный человек».
Но я не находил тут ничего смешного. Так оно и будет. С той только разницей, что девица соблазнит Сергея. Я понимал, что опережаю события, но ничего не мог с собой поделать – таким уж я был создан. Все горькие ощущения приходили ко мне задолго до положенного срока.
На бульваре было немноголюдно. Мы вышли на студенческую аллею. Не знаю, кто дал ей это название, во всяком случае, оно прижилось. В годы моего детства здесь действительно всегда было полным-полно студентов. На зеленых скамейках в тесноте, да не в обиде сидели окруженные поклонниками знаменитые городские красавицы, звезды университета и индустриального института, а мимо них не спеша дефилировали будущие геологи, юристы, энергетики и врачи.
Помню царственную небрежность моего кумира Артюши Данильбека. Небрежная походка усталого медвежонка, небрежно наброшенный на квадратные плечи пиджак, небрежно тлеющая в углу рта папироска. Он шел, чуть косолапя, изредка перебрасываясь со спутниками ленивыми фразами, сонно поглядывая на расположившихся на скамьях обольстительниц. Между ними была Анечка Межебовская, по которой сходил с ума весь город. Высокая, тоненькая, с шелковистой копной черных волос над пронзительно синими глазами, с гордым, чуть вздернутым носиком, с крупными мягкими губами, даже зимой сохранявшая на своих свежих тугих щечках бронзовый отсвет загара, Анечка Межебовская безусловно представляла собой общественную опасность. На ее совести было пятьдесят процентов двоек, проваленных зачетов, несданных экзаменов. По счастливой случайности она жила неподалеку от нас, и мы были знакомы. Уже одно то, что Анечка кланялась мне при встрече, делало меня баловнем судьбы. Ведь она была, по крайней мере, семью-восемью годами старше, и наши пути никогда не могли сойтись. Моя влюбленность в Анечку была просто-напросто религиозным порывом, поклонением идолу, наконец, проявлением чувства стадности и не слишком меня обременяла – не было молодого человека от двенадцати до двадцати восьми лет, который бы не прошел через это сладкое помешательство, – но по городу ходили байки о кровавых поединках, о самоубийствах, о предсмертных посланиях. Много, должно быть, рассказывалось чепухи, но многое соответствовало действительности, и теперь я могу себе представить, как нелегка была жизнь городской королевы. Вечные домогательства, признания, всхлипы, все это кликушество молодых остолопов, елейная, обволакивающая, насыщенная электричеством атмосфера, фарисейская преданность некрасивых подруг, неукротимая зависть смазливеньких девочек и, наконец, нервная убежденность, что вокруг одни недостойные паллиативы, что судьба ее, подлинная ее судьба, таится там, за невидимым поворотом дороги, в далеком будущем, всего этого вместе было вполне достаточно, чтобы искалечить человека и отпущенную ему жизнь. Анечку Межебовскую я потом потерял из виду, по слухам, все сложилось у нее не слишком удачно. И любовь, и девичество она отдала не тому, кому следовало бы, – какому-то заезжему ловкачу, у которого было одно-единственное преимущество перед прочими – он не успел примелькаться. Кажется, они очень быстро расстались, кажется, были еще какие-то попытки, судорожные и бестолковые. Говорили о какой-то неприятной истории, в которую она угодила, я уже плохо помню ее суть, а после она вовсе исчезла с горизонта, закатилась, как и положено звезде. Те, кто вспоминал, говорили о ней с деланным сочувствием и с плохо скрытым удовлетворением, – как всякий талант, красота раздражает. Все, что выламывается из среды, должно обломаться, так сказать, прийти в соответствие, вписаться в окружение. В любом, самом искреннем восхищении в зачаточном состоянии существует враждебность, и, если восхищение переходит допустимые пределы, эта враждебность может развиться.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу