Согласно одной из его занимательных теорий, веками накопленный опыт изучения анатомии человеческого тела подтверждал, что за тысячелетия предполагаемой эволюции человечество достигло весьма скромных результатов. Оно сумело лишь ликвидировать часть растительности на теле, усовершенствовать набедренные повязки и создать чуть более сложную технику высечения огня, чем удар одного кремня о другой. На этой посылке необъяснимым образом строилось обоснование второй часть концепции, утверждавшей примерно следующее: с восторгом отмечая техническое развитие всякого барахла, упустили самое важное; а суть заключалась в непреложной истине, что чем старательнее взрослые пытаются скрыть нечто от ребенка, тем с большим упорством он стремится заполучить запретный плод, будь то сладости или откровенные снимки бесстыжих певичек.
– И прекрасно, что дела обстоят именно так. В тот момент, когда погаснет искра жажды познания и молодые люди начнут довольствоваться объедками, завернутыми в красивый фантик, которые им проворно втюхивают торгаши наравне с мелкими бытовыми приборами вроде ночных горшков на батарейках, они утратят способность видеть дальше своего курятника, и мы вернемся в первобытное состояние.
– Апокалиптическое пророчество, – улыбнулся я, со вкусом обкатывая на языке слово, позаимствованное у Фермина, выдававшего мне в качестве премии пастилку «Сугуса» всякий раз, когда слышал его от меня.
– Вот это мне нравится, – одобрительно кивал Фермин. – Пока существуют сорванцы в коротких штанишках, умеющие оперировать словами с ударением на третьем слоге с конца, еще есть надежда.
Наверное, дело было в дурном влиянии Фермина, а может, хитросплетения интриг из приключенческих романов, какие я глотал, как засахаренные орешки, легли на благодатную почву. Но очень скоро я раскрыл тайну, кем был Хулиан Каракс и почему родители нарекли меня его именем. В поисках разгадки мне немало способствовала природная склонность сопоставлять факты, подслушивать тайные разговоры, рыться там, где не следовало, и особенно читать бумаги, которые, по мнению отца, давно отправились в мусорную корзину. А в тех случаях, когда моих способностей к сбору улик и дедукции не хватало, на сцену выступал Фермин со своими информационными бюллетенями, тайком снабжая меня необходимыми ключами, чтобы разгадать ребус и связать воедино различные сюжетные линии истории.
Тем памятным утром отец, кому и так хватало проблем, получил двойной удар. Он узнал, что десятилетний сын не только мечтал сделаться профессиональным литератором, но и хорошо осведомлен о многих событиях, которые годами от него скрывали скорее из душевного целомудрия, нежели по другим причинам. К чести отца должен заметить, что он воспринял новость довольно спокойно. Не стал кричать, угрожая отправить меня в интернат или сослать поденщиком на каменоломню, а только ошарашенно смотрел мне в лицо.
– Я думал, ты захочешь быть книготорговцем, как я, твой дед и прадед и как почти все Семпере с незапамятных времен…
Поняв, что застал его врасплох, я решил закрепить успех:
– Я стану писателем. Беллетристом. В качестве последнего штриха к общей картине, кажется, так говорят.
Последнюю фразу я произнес, желая пошутить, однако отец не оценил юмора. Скрестив руки на груди, он откинулся на спинку стула и настороженно наблюдал за мной. Щенок показал характер, и ему это не понравилось. «Добро пожаловать в мир родителей, – подумал я. – Дети рождаются, чтобы устраивать праздники непослушания».
– Твоя мама давно предупреждала, но я считал, что она просто хочет меня уколоть.
Еще одно очко в мою пользу. Если сеньора мама когда-нибудь ошибется, наступит конец света, и он придется на День святых невинных младенцев вифлеемских. С детства страдавший аллергией на смирение, отец явно не собирался сдавать позиции, и я с беспокойством ждал, что он попытается разубедить меня.
– В твоем возрасте я тоже воображал, будто у меня получится стать писателем, – начал он.
Я видел, что отец накалялся, словно метеорит, охваченный пламенем. Необходимо было срочно остудить пыл родителя, пока его речь не превратилась в проповедь о том, как опасно посвящать жизнь литературе, питавшей к верным паладинам не больше сострадания, чем самка богомола к своему супругу. Жестокость госпожи литературы не раз проклинали голодные писатели, посещавшие магазин и становившиеся вдвойне убедительными, если не получали приглашения на обед. Прежде чем отец разошелся не на шутку, я театрально обвел взглядом ворох мятой бумаги, разбросанной на полу, а потом многозначительно посмотрел на родителя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу

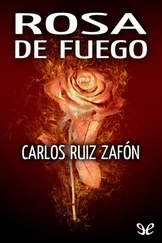






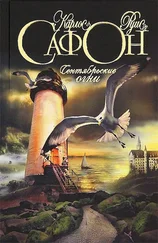

![Карлос Сафон - Тень ветра [litres]](/books/420697/karlos-safon-ten-vetra-litres-thumb.webp)

