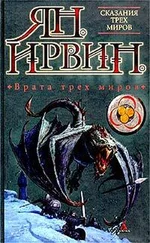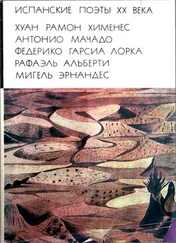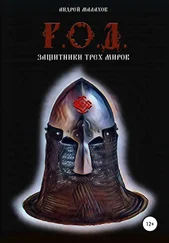Даже не будучи филологом, легко убедиться, что всю нежность, теплоту и ласку человеческая речь отдала цветам и птицам. Как ни странно, все связанное с музыкой (и особенно названия инструментов) звучит сухо и чуть ли не пренебрежительно: скрипка, волынка, сопелка и даже орган — это вам не малиновка, касатка или зяблик. И совсем плачевно обстоит с поэзией. На русском Севере стихами называют лыко, из которого кое-где еще плетут лапти для походов за клюквой. Наверно, и в других наречиях стиховедческие термины могут обнаружить сугубо житейское происхождение, и отнюдь не самое возвышенное. Но, судя по всему, Хуану Рамону Хименесу это пришлось бы по душе.
Ему довелось выслушать о себе много нелестного, от язвительных шуток, вроде «маэстро сегодня занят — тоскует», до прямых угроз: после публичной лекции «Желанный труд» (за два месяца до франкистского мятежа и начала Гражданской войны) он подвергся фланговым ударам: его одновременно объявили и фашистом и коммунистом. А в конце века, когда уже не было в живых ни поэта, ни его друзей и недругов, некий испанский стихотворец, из тех, кого Хименес называл «репортерами», пообещал, что не будет «как Хименес, подобно ангелу, парить над народом». О поэте сказано много несправедливого и оскорбительного, но «парящий ангел», бесспорно, самое глупое. Услышь это Хименес при жизни, наверно, сначала бы смутился, а потом рассмеялся.
Надо сказать, на рубеже 1930-х, когда его упрекали в эгоцентризме и отшельничестве, маэстро действительно был занят. Он много писал, но почти не публиковался, изредка (порой — анонимно) печатая стихи. Но зато он публиковал других. В эти предвоенные годы он основал и вел ряд журналов, куда хлынула литературная молодежь. Предприятие оказалось рискованным, Хименес не унаследовал от отца деловую сметку, и журналы то худели до нескольких страниц, то умирали, воскресая под новым именем. И все же иные из них пережили и своего создателя, и франкистскую цензуру, и самого Франко; созданный Хименесом «Индисе» — доныне один из самых авторитетных испанских журналов. Дело оказалось прочным. И еще: Хименес, вошедший в литературу рано и победно, знал, что первые шаги трудны, и сам он — счастливое исключение. Он создал библиотечку молодых поэтов и, выводя их в люди, снабжал напутственными предисловиями. Давалось это ему нелегко. Парить Хименес не умел, поскольку был далеко не ангелом, и отношения его с питомцами, а верней — с соратниками, не походили на идиллию. Беспощадный к себе, он требовал того же от других; а те защищались нападая и, выйдя в большую литературу, с благодарностью, но покидали наставника. Постепенно вокруг Хименеса возникала пустота. Это, понятно, его не радовало, но зато радовало другое. Хименес издавал не только и не столько близких ему по складу поэтов, но чаще — самых разных и не похожих ни на него, ни друг на друга. На глазах рождалась новая испанская поэзия, а он, как мог, облегчал роды. В России такой же чуткостью к чужой и даже, казалось бы, чуждой поэзии обладала, наверно, лишь Марина Цветаева. Эту способность радоваться стихам не объяснить ни поэтической восторженностью, ни тем более всеядностью или даже широтой вкусов. Да, душевное бескорыстие позволяло, не поступаясь собственными представлениями и пристрастиями, подниматься над ними. Но рождалось оно из особого, внелитературного понимания поэзии и природы поэта.
Хименес в образе парящего ангела уже упоминался. Но был и другой, дружественный, образ, и потому он тоньше и вернее. В посвященном Хименесу стихотворении Антонио Мачадо говорит о его поэзии: «францисканская лира». Как известно, ученики святого Франциска удивлялись, зачем он подбирает и хранит свитки языческих писателей, на что святой простодушно (или лукаво) отвечал: «Я нахожу в них буквы, из коих слагается имя Господне». Поэзия для Хименеса подобна музыке — стихии, которая существует вне человека и узнается, пусть в человеческом восприятии ритма и лада, во всем, от узора лепестков до движения светил. Стихи для Хименеса — не литературный жанр с его особенностями, он вообще отделяет поэзию от литературы и постоянно избегает рассуждений о мастерстве не от невнимательности к технике стиха (в этом-то он искушен), а повинуясь какому-то почти суеверному чувству, которое тонко уловил его ровесник, чудесный польский поэт Болеслав Лесьмян: «Как только поэзия для нас перестает быть тайной, мы для нее перестаем быть поэтами».
То, о чем говорит Хименес, чему служит и что проповедует, это «поэзия жизни». Воля к жизни? Но пресловутая воля в избытке и у кобры, и у крокодила, кстати, превосходно обрисованного в древнерусском бестиарии: «Егды яст, плащет, но ясти не перестает». Человек, конечно, плаксивей и прожорливей крокодила, но отличается от него одним свойством: способностью не только истреблять, но и создавать. Поэзия жизни, по Хименесу — причина и объяснение, почему человечество все же не состоит из одних лишь убийц и самоубийц. Это неуловимая и надежная сила, ощущение тайного родства, то, что помогает нам жить на земле, не уродуя ни ее, ни себя, терпеть, радоваться и радовать других.
Читать дальше