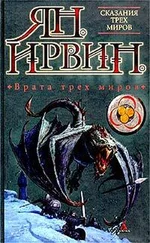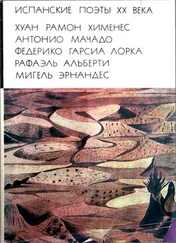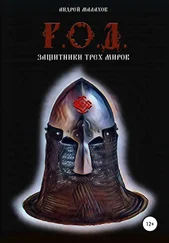Сад ликовал! Дети скакали, раскрасневшись, били в ладоши и смеялись. Диана, обезумев, гонялась за ними и облизывала свой собственный смешливый бубенчик. Платеро, захваченный серебряным водоворотом, выделывал курбеты, как козленок, кружился на задних ногах в собачьем вальсе и, встав на передние, пинал ясный и ласковый воздух.
ЛЕТО
Платеро кровоточит, искусанный слепнями, сочась густой лиловой кровью. Пилит сосну, вечно далекую, цикада… Из необъятного мгновения сна я возвращаюсь к песчаной окрестности, внезапно белой, призрачной, холодной в мертвенности зноя, как ископаемый ландшафт.
Низкий горный кустарник весь заметён огромными воздушными цветами, мглистыми газовыми розами с четырьмя алыми брызгами на каждой, а за ним удушливое марево уже припудрило плоские сосны. Невиданная птица, желтая в черный горошек, беззвучно каменеет на ветке.
Сторожа гремят медью, пугая лесных голубей, которые сизой стаей кружат по апельсиновым садам… Когда мы входим в большую тень орехового дерева, я раскалываю два арбуза, с долгим сочным хрустом ломая их алый и розовый снег. Я свою долю ем медленно, слушая, как далеко-далеко, в городке, звонят к вечерне. Платеро сахарную мякоть пьет, как воду.
ПРИДОРОЖНЫЙ ЦВЕТОК
Как чист и чудесен, Платеро, этот цветок при дороге. Проходят орды — быки, козы, кони, люди, — а он, такой мягкий и слабый, стоит по-прежнему прямо, светлый и стройный, на своем одиноком бугорке, в той же нетронутой чистоте.
День за днем, когда мы в начале подъема сворачивали напрямик, ты видел его на весеннем посту. Он уже обзавелся птицей, которая при виде нас улетает (зачем?); иногда его крохотный кубок светится каплей дождя; он уже терпит поборы пчелы и нарядную ветреность бабочки.
Жить ему недолго, Платеро, но помнить о нем надо вечно. И жизнь его станет днем твоей весны, весной моих дней… Что только не отдал бы я осени, Платеро, взамен этого дивного цветка, чтоб час за часом его весна, бесхитростно и бесконечно, воскрешала нашу!
МАДРИГАЛ
Взгляни на нее, Платеро. Как цирковая лошадь по кругу, она в три оборота облетела сад, белая, словно легкий гребешок единственной волны в море света, и снова скрылась за глиняной оградой. Я представляю ее в заглохшем цветнике по ту сторону и почти вижу ее сквозь беленую преграду. Смотри. Она снова здесь. На самом деле это две бабочки: одна белая, другая черная — ее тень.
Есть, Платеро, такая красота, которую никто и ничто не может затмить. Например, твои глаза на мохнатой морде, звезда в ночной тьме, а в утреннем саду — роза и бабочка.
Платеро, взгляни, как она кружится. Как, должно быть, радостно вот так летать! Наверно, не меньше, чем я радуюсь стихам. Она вся, душой и телом, в этом полете, и кажется, что для нее больше ничего не существует в мире, то есть в саду.
Тише, Платеро… Смотри и молчи. Что за отрада видеть, как летит она, такая светлая, без пятен и прикрас.
РУЧЕЙ
Этот ручей, сейчас пересохший, по которому, Платеро, мы идем на Конский луг, этот ручей останется в моих пожелтевших книжках, иногда такой, как есть, с заброшенным колодцем в низине, с полевыми маками, опаленными солнцем, с рассыпанными по траве абрикосами; иногда — иносказательный, образный, перенесенный в нездешние края, неведомые и воображаемые…
При виде его, Платеро, детская фантазия вспыхивала, как цветок чертополоха на солнце, радуясь первым открытиям, когда я узнавал, что ручей в низине — тот же самый, что пересекает дорогу в Сан-Антонио рощицей певучих тополей, куда летом я добирался по сухому руслу, а зимой, пуская берестяные кораблики, забредал еще дальше, до гранатовых деревьев у моста, моего убежища, когда гнали стада…
Детское воображение, Платеро, — не знаю, как у тебя с ним обстоит или обстояло — удивительно! Все чудесным образом переиначено, все наяву, а кажется мгновением сна. И ходишь полузрячий, то вглядываясь в мир, то заглядывая в себя, то погружая в душевные потемки груз живых образов, то раскрываясь навстречу солнцу, как торопливый цветок, и поверяя ручью поэзию просветления, которая никогда больше не вернется.
АГЛАЯ
Какой же ты раскрасавец сегодня, Платеро! Иди ко мне… Славную встряску задала тебе утром Макария! Все, что есть белого, и все, что есть черного в тебе, блестит и переливается, как день и как ночь после ливня. Какой же ты красивый, Платеро!
Платеро, слегка смущаясь самого себя, идет ко мне медленно, еще влажный после купанья, чистый, как нагая девушка. Его обличье просияло, подобно утру, и большие черные глаза мерцают так ярко, словно самая юная из граций одолжила им этот жаркий блеск.
Читать дальше