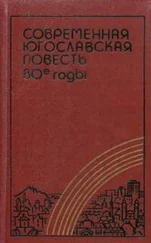— Майор Шмидт мертв, — сказал он негромко, точно хотел ответить этому голосу, но он уже пропал, а вместо него возник такой знакомый голос, говоривший по-сербски, скользкий и бесцветный: «Времена изменились… Немцы больше нам не враги… Будь беспощаден к коммунистам… Будешь получать специальный паек, еду и сигареты…»
Паровоз загудел. Поезд тронулся, и пар вытеснил полегший загустевший туман. В купе еще острее почувствовался запах копоти. Уличные фонари ожили, пошли с поездом.
Он вздрогнул, в замешательстве огляделся вокруг и, поняв, что состав тронулся, схватил чемодан и панически выскочил из вагона.
Окно смотрело в слезливое ноябрьское небо. На окне трепыхалась грязная белая тряпка, которую мотал ветер, посвистывая сквозь дыры подгнившего оконного переплета. Лоскут колыхался почти у самой его головы, словно это судьба вывесила его над ним, этот флаг, символ его несчастья и бессилия, здесь, на мансарде старой венской гостиницы. На потолке торчал ржавый крюк. На крюке болталась веревка, на конце ее виделся силуэт искусно завязанной петли, сквозь которую могла пройти голова человека.
Его голова то поднималась почти до веревки, то утопала в мягкой подушке. Голова была слишком тяжелой для расслабленных шейных мышц, а у него не было ни сил, ни воли остановить ее в этой неистовой борьбе, в этом безумном желании сунуться в петлю.
Он лежал одетый, набросив на себя пальто, и стучал зубами от стужи. Под ним сотрясалась железная кровать с постельным бельем, которое он ненавидел из-за мерзкого запаха вонючего мыла. Из-за этого запаха его мучили кошмары, снились страшные сны: немецкие лагеря, где сжигали людей и из их жира делали мыло для мытья узников и стирки их белья. Пробудившись, он думал об этом и спрашивал себя: а не стирали ли и это белье тем мылом? Почему бы и нет, если правда, что хозяин отеля в годы войны занимался сомнительными делами и был в наилучших отношениях с владельцами тех мыловаренных фабрик. Не обеспечил ли смекалистый венец себя про запас дешевым мылом для своего отеля… и, как знать, не в насмешку ли над теми, кто пришел сюда, изгнав его друзей?
В это утро он об этом не думал, он ни о чем не думал, не чувствовал запаха белья. С некоторых пор он по ночам не сводил взгляда с крюка и веревки. Силуэт петли вытеснял все его мысли и ощущения; в петле исчезало прошлое, пропадал свист поезда, от которого две недели у него гудело в ушах; она сулила сон без страшных видений и кошмаров… Она непреодолимо манила его, предлагая ему бескрайний мир и конец голодным спазмам в желудке. Но до петли голова не могла достать. Он должен был поднять ее. Он стонал и хрипел. Он задыхался от бессилия помочь своей голове в ее стремлении достичь светлого волшебного круга. Он сжал челюсти, напрягся, вытянул руки, словно в молении перед распятием Христа, но исторг лишь вопль, он сорвался с его посиневших от холода губ, полетел и протянулся в глухом эхо.
От постельного белья запахло вонючим мылом. Он задержал дыхание, передернулся от отвращения и сразу поднялся, но не отошел от кровати. Он стоял, словно прикованный к ней, ухватившись руками за холодные железные прутья. Голова уже не висела так вяло, словно ненужная часть тела. Ноги в коленях дрожали и тянули его книзу. Он старался удержаться на ногах, хотя усилие это было для него непонятным, как и то, вчерашнее, как каждое вставание, когда он задавал себе вопрос: «Куда? Куда ты теперь, Филипп Ивич?» Он спрашивал себя и безнадежно качал головой. Какой смысл пожирать собственную утробу, а в душе носить стыд труса, только ради того, чтобы видеть кошмары в этой проклятой вонючей постели?
В дверь постучали. Он вздрогнул, очнулся, точно после глубокого сна, однако не отозвался. Сбросил пальто, быстро снял с себя все, остался в одной рубашке и подскочил к умывальнику, из крана которого сочилась тонкая струйка воды. Он стал умываться, неохотно брызгая холодной водой на руки и заросшее щетиной лицо.
Покончив с умыванием, словно был уверен, что посетитель все еще здесь, посмотрел на закрытую дверь и, грустно усмехнувшись, хриплым голосом произнес:
— Войдите, Ганс…
Дверь отворилась, и в проеме двери возникло добродушное, сухощавое старческое лицо с огромным носом.
Подтянутый, в темно-зеленой ливрее, старик вошел в комнату и озабоченно покачал головой.
— Боже мой, ну и вид у вас, господин Филипп, — сказал он и добавил с мягкой христианской укоризной: — Да минует вас несчастье, но только ведете вы себя так, словно сняли эту комнату под свой склеп…
Читать дальше