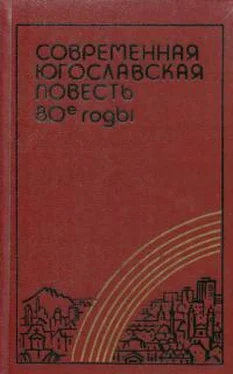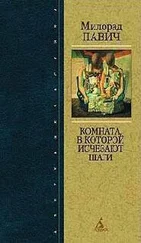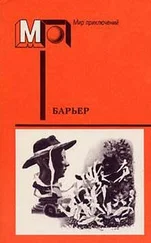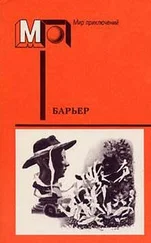Разия умоляла Теодора не убивать ребенка, но он, словно обезумев, хотел от него избавиться. Сейчас он страдал и ему было страшно.
Закончив операцию, доктор Л. подошел к Теодору. Тот вытащил из кармана четырнадцать тысяч динаров и молча протянул ему. Его трясло. «Она скоро проснется», — сказал доктор, поворачиваясь в сторону Разии. Он положил деньги на столик, рядом с Теодором, с треском, похожим на выстрел, снял резиновые перчатки и направился в ванную мыть руки. Вскоре Разия очнулась, и анестезиолог помог ей сойти со стола и одеться. Она молча села в кресло, рядом с Теодором. Они долго смотрели друг на друга. Затем поднялись. «Надо еще немножко отдохнуть», сказал доктор Л. Но Разия сказала, что она хорошо себя чувствует и может идти. Теодор взял ее под руку, и они пошли к дверям. «Если будет что-то не так, зовите меня», — добавил доктор Л. напоследок.
Через два года, заявив ей, чтобы больше не приходила, Теодор растянулся голый на полу и зарычал. Пока Разия молчком шла к дверям, он дополз до ванны, пустил воду и начал мыться. Посмотрев в зеркало, заметил тонкую красную жилку под левым глазом. «Это не я», — прошептал он и заплакал, не в состоянии больше вымолвить ни слова. Тогда он захотел умереть, стать травой. Он погрузился в воду, которая переливалась через край. Почувствовал, что расходится со всем миром, не только с Разией. Что, отдалившись от самого себя и всех, он унизил душу. А мир об этом не знал. Он бежал в пределы какой-то иной жизни. Уже касался грани между сумасшествием и гармонией. И может быть, был счастлив.
25
На земле тленно все, даже слова. Книгу и то нельзя направить, как нам хочется, а тем более жизнь. Все течет неисповедимыми путями господними. Время и слова заполняют пустоты, как река заполняет русло. Или выходят из берегов и заливают землю, текут. То, что можно увидеть у реки и земли, незримо, когда касается человека и размывания его души. Все соединяется и исчезает в какой-то высшей гармонии, о которой нам неведомо. Теодору казалось истиной, что жизнь человека течет в незримой гармонии в объятиях природы и времени и не только земля — русло и ложе жизни человека. Ложе человека — вся вселенная, и он возрождается в чьем-то воспоминании, стоит ему умереть.
Теодор по целым дням не спускался со своей мансарды. Двигался все меньше. Все реже ходил в Академию. А последние месяцы ощущал пустоту и весь его мир был болен. Его красота болела. Всякий раз, открывая глаза или закрывая их, он не знал, пробуждаться ему или спать дальше и видеть сон. Ему казалось, предметы смотрят на него глазами Разии, потому что на ее лице он не видел глаз.
Теодор успокаивался, только когда вспоминал мать. Мысль о ней стала его прибежищем. Тогда он спускался с мансарды и бродил по городу под взглядами незнакомых людей. Но вскоре на него наваливалось незримое насилие мира, которое он ощущал, стоило ему оказаться на улице. Он бродил в толпе, подгоняемый криками невидимых врагов, внезапно останавливался на берегу Савы и подолгу стоял молча, глядя в мутную воду: она не торопится, и ничто не может ее остановить. Мне казалось, воде он поверял сокровенные тайны своей души. Он проводил нечеткую грань между душой с ее стремлением к совершенству, к смерти и вечности и собственным стремлением к совершенству, к прикосновению травы. Но пустоты в душе оставались непостижимыми. Он опускался на землю и мазал лицо речным илом, потом ополаскивал руки, лицо, смывал ил. Но вода была грязной, и только в мансарде под душем он полностью смывал ил.
Я думаю, пустоты у Теодора появились до того дня (конец сентября 1975 года), когда на фоне рваных туч, при вспышке молнии над Белградом он выскочил из своей мансарды, тощий и голый, поднялся на крышу и на виду у пораженных жильцов зарычал. Задохнувшийся, возвратился, и по его сморщенному лицу катились то ли дождевые капли, то ли слезы, не знаю. Какое-то время он стоял бесстыдно, а затем плюхнулся на колени к Разии, лязгая зубами и смеясь. Ему не удавалось унять дрожь — он искал губы Разии, но не находил их, словно в лихорадке. Я думаю, пустоты с тех пор, да и раньше, все настойчивее и чаще погружали его в ужасающую тишину, в которой он тонул, пока три года назад не смирился и не поселился навсегда в вечном покое Црнишского кладбища.
26
Теодор таял в ночных трудах и бдениях над «Словарем» под треск буковых дров в печи. Работа над книгой его и успокаивала, и опустошала. Его сводила с ума разверзшаяся под словами бездна. («Я схожу с ума, потому что вижу бездну, но ничего из нее не могу взять в книгу», — говорил он.)
Читать дальше