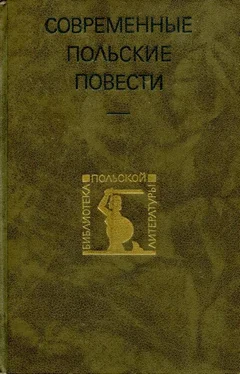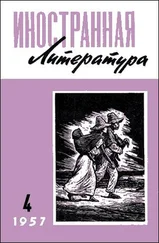— А платок она взяла?
— Платок?
Я почувствовал его недоверчивый взгляд сквозь темноту, скопившуюся в доме, и поспешил подтвердить:
— Вроде взяла.
Странно, но меня никогда не мучила совесть, что я обманываю его, да обманывал ли я его? Я сам иногда ловил себя на том, что поддаюсь надеждам, что ничего не изменилось — что там могло измениться, если мы вовсе не разрешали матери уйти от нас, разве только за белой клушкой, но ведь если человек ушел, причину можно подменить одну другой, как яйца под курицей, можно легко уверовать, и я почти уже верил, что ничего не изменилось, ни в отце, ни во мне к отцу, то есть и внутри нас и вокруг нас, да и что могло измениться, если мы друг для друга оставались такие же, как раньше. Я обязан был в это верить, чтобы он ни о чем по мне не догадался, чтобы во мне никак не отразилось его несчастье, которого сам он не замечал, не чувствовал, запертый внутри его, недоступный никаким чувствам, нужно было, чтобы отец не мог ничего прочесть во мне и в себе самом, и я в конце концов по-настоящему поверил и привык к своей вере, как к тому, что утром надо вставать с постели. Только она, моя вера, могла нас спасти для себя же самих, она стала единственным нашим общим убежищем, я прятал в ней отца, как сейчас прячу его в своей памяти, в нескончаемой тоске по нем, так что вера мне нужна была, может быть, больше, чем ему. Я находил в ней, для себя непонятное утешение, пусть фальшивое, моя вера, может быть, и спасла меня, потому что я остался ведь совсем один, один как перст, еще более одинокий оттого, что при мне был отец, уходивший в свое несчастье у меня на глазах, отрешенный от меня, от мира, от себя самого своим несчастьем. Мне не хотелось, чтобы он о чем-нибудь догадался, я не слишком верил в его несчастье, я думал, что моя верность все же проникает к нему, как свет в темный дом, так что я не показывал виду, что он остался один, хоть и со мной, но помимо меня, помимо всего, что существует, один со своим несчастьем. Откровенно скажу, что я иногда завидовал его положению, хорошо это было или нет, но завидовал. Я даже хотел оказаться с ним вдвоем в его несчастье, в его отделенности, которая была прежде всего отделенностью от меня, я хотел переступить границу, которая нас разделяла. Мне бы хватило одного шажка, как через межу, чтобы стать таким же несчастным, как он, не причастным уже ни к чему, даже к собственной памяти, но зато с ним. Мне не верилось, что можно было бы жить иначе, чем мы жили с отцом, то есть не его жизнью, не одной жизнью для нас двоих, собственная жизнь была мне не по силам, я всегда ее как-то боялся. Кроме как в его жизни, мне нигде не было ни места, ни надежды. Но, видно, не слишком сильны были мои желания или сам я был слишком кроток для них, чтобы они исполнились, меня крепко держала моя обыкновенность, и я не мог от нее отрешиться.
Поэтому и чтение было для меня не чем иным, как продолжением моей верности, оно одно, по правде сказать, объединяло нас. Это было наше единственное с ним воспоминание, единственное общее желание, единственное разделенное чувство. Я не пропустил почти ни единого вечера, а поскольку всегда находилось, что читать, я не беспокоился, что с нами будет, как будто бы наши чтения могли обеспечить нам общее, спокойное бессмертие.
Когда делили усадьбу, я принес сколько-то книг, хоть и натерпелся из-за этого стыда. И не потому, что я брал, тогда все брали, кто что мог, мебель, ковры, люстры, даже половицы, и кафель с печей, и землю, прежде всего землю. Наконец пришли времена земли, только земля могла идти в счет. Тот действительно брал, кто брал землю. Что были мои книжки против их земли? Книжки было некому брать, кроме меня, я один такой выискался, хотя сколько стыда я вытерпел, известно одному мне. Люди покачивали головой, жалели меня, самые же добрые подгоняли:
— Пора брать землю, пан учитель, землю, а не книжки.
И стыд мой увеличивался, потому что я понимал, что люди жалеют не меня, а мое юродство, одни жалеют от души, другие со смехом, но всем жалко, что я такой чудной, и даже не потому, что я смешон был с мешком книг за плечами, а потому, что я упускаю время, оно уходит как сквозь пальцы, а я даже не догадываюсь, не замечаю этого, как будто у меня глаза завязаны, а это всегда выглядит смешно. Может быть, именно тогда кое-кто запасся на будущее баснями обо мне. Наверное, вообще единственное, что от меня останется, это мое тогдашнее юродство. Легче всего и верней всего сохраняется в людской памяти именно смешное.
Читать дальше