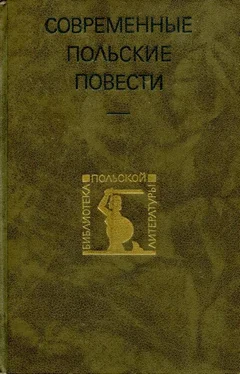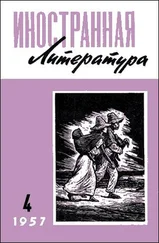Я читал ему и в те времена, когда на нас свалилось несчастье. Уж я не знаю, слушал он меня или нет, но, когда я приходил домой, он обычно сидел на табуретке в кухне, как будто ждал меня. Я читал ему громко, чтобы он мог не садиться к столу, чтобы он хорошо меня слышал и там, где сидит. Почти каждый вечер, иногда и за полночь, пока он сам не уходил, не бросал меня посреди чтения, за что я никогда на него не обижался, поскольку важно было не само чтение, а верность, преданность ему, чтобы он не почувствовал, что остался один в своем несчастье, а ведь только моя верность могла заменить ему весь утраченный мир, вернуть ему память о себе, потому что даже матери не было теперь с нами, матери, которая бы нам помогла.
Мать ушла сразу же после того, как с ним случилось несчастье. Она именно ушла, а не умерла, потому что трудно сказать о той, которая так незаметно уходит из жизни, что она умерла. А она уходит так незаметно, что даже самые близкие не удивляются, что ее все нет. Но ведь ясно, что женщинам некогда умирать. Женщина, если она выходит из дому, то ведь ей надо свиньям задать, подоить корову, курам бросить зерна либо бельишко постирать в реке. Потому люди и верят ее отсутствию так же, как ей самой, живой.
Вот точно так умерла и мать, как будто пошла покормить своих кур и пока еще не вернулась. Сначала она уходила плакать куда-то за дом, один раз я встретил ее, когда она стирала, другой раз в кустах сирени, а потом она начала сохнуть, пока не превратилась в щепку, в стружку и совсем не усохла из этого мира.
Даже отец не помнил, что она умерла. Он ни разу не побеспокоился, почему ее нет. Ее нет дома — это ей свойственно, как четки по вечерам, как расчесывание волос, шелест юбок, теплый запах молока после вечерней дойки. Отец слепо верил в ее отсутствие, как слепо верил ей самой всю жизнь. Следом за ним и я привык думать, что она просто вышла, что она вернется, а когда вернется, то с порога напустится на нас, что мы не поели, раз ее нет, и зажжет нам лампу.
Только однажды, когда мы сидели вечером — он у плиты, я у темнеющего окна в ожидании ночи, он как бы вдруг опомнился, как будто проснулся и спросил:
— А где мать?
— Не знаю, — ответил я, но сразу вспомнил, что она ведь умерла, и внезапно почувствовал ее смерть, как будто мне недостало матери именно только что, как будто это отец своим вопросом вызвал смерть, обнаружил ее присутствие среди нас, так что в первую минуту мне все это показалось ненастоящим, как дурное известие, но тут же я странным образом испугался, как будто увидел в окне тень матери, загоняющей сумерки в куриный хлевок. Эта секунда настоящего страха меня, однако, выручила. Вдруг я как будто что-то вспомнил, чуть по лбу себя не хлопнул, и воскликнул:
— Да она, наверное, опять свою белую клушу пошла искать.
Он поднял глаза на меня или не на меня, засмотрелся в окно.
— Ты помнишь ту белую клушку? Ты ведь сам ее частенько приносил маме. Когда ты хотел ее повеселить, ты шел, находил эту белую клушку в стаде или в курятнике и приносил маме. Вот, я нашел ее тебе, говорил ты, она сидела в кустах сирени. Чудная была курица. Все пропадала к вечеру. Другие куры всегда приходили в сумерки, а за этой мама должна была бегать по саду, за речку, до ночи ходить, она сама никогда не возвращалась. Наверное, опять она пропала, иначе куда еще матери подеваться. Чудная курица какая-то, или она уже приучена, что, если мать не выйдет ее звать, она и не знает, возвращаться ей или нет. Не знает ни дня, ни ночи, одну маму. По маме узнает, что ночь. Глупая, что ли, курица, ночи не видит. Но, может, на них мор нападет, как в прошлом году. Напал мор, собакам рай.
Тут же он очнулся или вдруг вспомнил, что разговор шел о матери, и сказал, обернувшись в мою сторону:
— Мать ведь собиралась холсты подобрать.
— Собиралась, но я же говорю — клушка у нее пропала, она за клушкой пошла. Хорошо еще, что курица белая. Белая ночью не потеряется, быстрей найдется. Мама знает, где ее искать. Ночью тоже дорожки есть, сирень есть, ночью, может, мама тоже увидит. Кто знает, может, ей не темно. Сколько она по ночам набегалась по саду, у сараев, и на речку бегала, сколько находилась, накричалась, сколько четок посеяла с этой своей клушкой, найдет она ее, найдет. Да клушка сама найдется, ей только мать увидеть. Почувствует только, что мама стоит и переживает, и сразу закудахчет или сама к ногам прибьется. Она же знает, что за это мама ее возьмет на руки. Поэтому, может быть, и пропадает все время. А мама могла уже давно ей шею свернуть. Могла бы. Когда она злится на нее, то грозит, что убьет, а как находит, то забывает, что обещала, ласкает ее, гладит, восхваляет до небес, это, мол, лучшая ее курица, потому что другая бы ни за что не нашлась, другой бы только набить зоб да в огород вломиться, нашкодить там, а вечером как ни в чем не бывало в курятник забраться.
Читать дальше