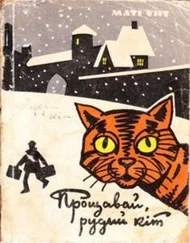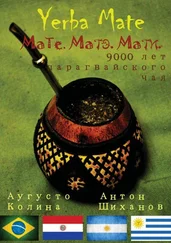На дворе была глубокая, ненастная осень, дул ветер, автобусы уже не ходили, надо было пешком идти в центр города. Не говоря ни слова, Иллимар пошел меня провожать. Мы долго шли молча, съежившись, наклонившись вперед из-за встречного ветра. Мне не хотелось отсылать его, да вряд ли бы он и ушел. Нам преградил путь какой-то поезд, мигал красный свет, мокрые колеса громыхали по мокрым рельсам, свет дрожал у Иллимара на мокром лице. Только теперь Иллимар спросил: как я думаю, кто он? Я подумал, что он имеет в виду семейную ссору, но не успел сказать и двух слов, как он меня оборвал, уточнил: нет, вообще. До сих пор жалею, что ничего путного не смог ему ответить, а начал говорить что-то общее, абстрактно относительное: каждый сам выбирает свою судьбу, другому не следует вмешиваться, выбор нужно делать самому, даже несчастье может оказаться счастьем. Когда мы двинулись дальше, он, как мне кажется, был совершенно трезв. Когда он успел протрезветь, не знаю. Вдруг он схватил меня за рукав и сказал: ты веришь, что театр — самое дорогое, что у меня есть? Я люблю Асту и театр, уточнил он — не знаю, насколько искренне. Взгляни на этот город, сказал он грустным, незнакомым голосом, взгляни на него, ведь это наша жизнь, которая не живет и не умирает, что у нас есть, кроме него? От среднего эстонца ничего интересного ждать не приходится. Может, от молодых? Мы шли по окраине, вдоль здания холодильника, на душе и без этого разговора было пусто и тоскливо. Что от молодых, чего ты от них ждешь и чего ты вообще ждешь? — спросил я тихо. Праздника, радостного праздника, ответил он так серьезно, что у меня мурашки побежали по спине. Так мало? — спросил он и сам же ответил: слишком много, и с самого начала нечего было на это рассчитывать. Мы долго молчали. Я переминался с ноги на ногу — не потому, что замерз или хотел поскорей попасть домой. Меня потрясла его серьезность, его неуместная, можно оказать, абсолютная искренность. Я был зол на себя, что сразу не понял истинного значения слов, идущих у него от самого сердца. Он вздохнул, протянул мне руку и пошел назад, через лужи, под фонари.
Я хотел его окликнуть. Как будто был в чем-то виноват. Когда он исчез во тьме, пошел домой и я.
Затем они свободно переработали «Эдипа», но до публики спектакль не дошел. По беспечности я не ходил на репетиции и обо всем услышал лишь тогда, когда сам маэстро наложил на репетиции вето. Слышал только, что маэстро говорил что-то о мифе и фашизме. Не требовалось особого интеллекта, чтобы догадаться, в чем было дело, надо было лишь вспомнить старого доброго Томаса Манна, который говорит, что «слово «миф» пользуется в наши дни дурной славой, — достаточно вспомнить о заглавии, которым снабдил свой зловещий учебник присяжный «философ» германского фашизма Розенберг, этот идейный наставник Гитлера». Иллимар и раньше жаловался, что маэстро понимает под мифом фашизм, под экстазом — лагеря смерти, под ритуалом — груды горящих книг. Ну и что, сказал я Иллимару, это же естественно, что он так думает. Разве в наше время эти слова не обладают амбивалентным значением? Да не обращайте вы на это внимания, ведь тот же Манн говорит, что миф надо вырвать из рук фашизма и заставить его служить гуманизму. Конечно, мне легко было умничать, как всякому постороннему.
Может быть, маэстро и прав. Все это было тревожной осенью, когда во всем мире горели автомашины, государственные флаги, танки, призывные повестки, люди.
Тогда же появились и некоторые новые идеи о назначении театра. Связаны они были с аналитической психологией Карла Густава Юнга. По Юнгу, человеческое сознание состоит из следующих областей: Маска ( Persona ), Самость ( das Selbst ), распадающаяся на сознательные Я и Душу ( Anima ); ниже идет личное бессознательное и еще ниже — коллективное бессознательное. Persona — это внешнее поведение, на этом уровне люди ежедневно общаются друг с другом, это возникшая в результате социальной необходимости маска, причем этих масок может быть несколько: для одного — одна, для другого — другая, у себя дома — третья. Возникла идея, что в театре эту маску надо сорвать, стать самим собой, стать таким, каков ты есть на самом деле. Это должно помочь человеку научиться распознавать свою истинную сущность. Не правда ли, здесь содержится интересный парадокс: понятие persona (Маска) само восходит к античному театру, где носили маски; теперь же именно театр признается тем местом, где срываются все маски, все до последней. Из храма маски театр должен стать храмом антимаски. Как дилетант и человек посторонний, я не могу, конечно, сказать по этому поводу что-либо окончательное. Однако я не утаил от Иллимара сомнения, что вряд ли все мировые общественные, моральные, педагогические и прочие инстанции вдруг стали столь беспомощны, что остается взвалить на театр всю миссию переустройства мира. Иллимар не спорил, но заметил с неожиданной трезвостью, что довольно многих эта идея все еще касается, людей театра и еще примерно один процент населения — тех, кто наблюдает плоды этой работы. Я был несколько удивлен таким скепсисом по отношению к собственной работе и стал возражать: кто может математически точно измерить влияние искусства — один зритель, понимающий суть дела, может стоить и десяти, и двадцати прочих! Труппа Феликса была занята в то время постановкой истории Адама и Евы. В тот вечер мы так и расстались, я не понял неожиданного скепсиса Иллимара. Скорее всего он был случаен, возник вследствие плохого настроения, потому что при следующих встречах он опять только и твердил, что о коллективном бессознательном и освобождении от масок. Высказал он и новую мысль — о прославлении женственности. Он говорил, что женщина значительно естественнее мужчины, она ближе к природе, к животному миру, более инстинктивное существо, нежели мужчина, что женщина уравновешивает рациональную мужскую сущность; мужчина все время к чему-то готовится, а женщина просто существует. Я привел ему доводы ( Hampson и др.), что не существует врожденной мужской и женской психологии, но он счел все это дешевым биологизмом и продолжал восхвалять женщину. Мне, как мужчине, мужчина скучен, сказал он. Искусство — это тоже женщина, в любом настоящем произведении искусства есть что-то женственное, сказал он, потому что настоящее произведение искусства рождается как бы из самого себя. Этой своей женственностью он опровергал все понятие культуры. Культура — дело мужчин, она отнимает у них все время и оттесняет женщину на задний план, делает ее враждебной культуре, утверждал Фрейд. Иллимар много еще говорил о женщине и, конечно, о понятии anima как извечном женском образе, живущем в душе мужчины. Еще он сказал, что уже месяц как потерял паспорт, уже не надеялся его найти, хотел обойтись так, без паспорта. Но однажды вечером пришел домой и обнаружил сидевшую в кухне вместе с Астой какую-то грязную старуху, которая сказала, что нашла его паспорт на свалке, и, действительно, вынула паспорт и запросила за него скромное вознаграждение. Паспорт был разбухший, неприглядный и грязный, как и эта старуха со свалки. Иллимар, по его словам, разозлился и отказался платить вознаграждение, сунул паспорт старухе в руку и вытолкнул ее за дверь. На следующий день он нашел паспорт в почтовом ящике. Представляешь, эта старуха все-таки принесла паспорт, и без денег! — заорал Иллимар и пригласил меня в бар выпить коньяку. Но и там он долго не мог успокоиться, что старуха со свалки оказалась такая благородная и принесла ему паспорт домой без всяких денег. Такая аффектация с его стороны мне не понравилась. К счастью, и ему скоро этот разговор надоел. Выпив пару рюмок, Иллимар сообщил: бесследно исчез Теннесси Уильямс, он оставил брату письмо, где объяснял свой поступок тем, что опасается за свою жизнь. Иллимар ушел домой. Паспорт снова был при нем, и я был уверен, что этот Теннесси Уильямс тоже скоро объявится.
Читать дальше