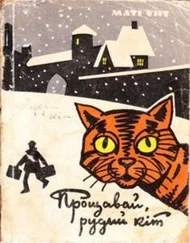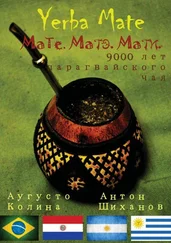Представление «Фауста» (или, как сказал Иллимар, свободная детская игра по мотивам «Фауста») состоялось в одном заводском клубе, куда вход посторонним был строго запрещен. В дверях стояла женщина из городского комитета культуры, внимательно проверявшая у всех пригласительные билеты. В воздухе витали любопытство и таинственность. Под окнами толпились хиппи, представители underground'а и поэзии протеста. Мне было их жаль, но Иллимар сказал, что их пускать нельзя. И так с трудом удалось все это устроить. Они войдут в раж, это точно, объяснил Иллимар, начнут хлопать, выкрикивать свои пошлые похвалы, и тогда всему конец, все к чертям. Я был в числе избранных. В ярко освещенном помещении не было стульев. Все стояли вдоль стен. В углу на столе был виден реквизит: барабан, хлеб, манекен, томатный сок.
Представление началось отрывком из театрального вступления: «Смотрите, на немецкой сцене / Резвятся кто во что горазд. / Скажите — бутафор вам даст / Все нужные приспособленья… / В дощатом этом балагане / Вы можете, как в мирозданье, / Пройдя все ярусы подряд, / Сойти с небес сквозь землю в ад». Играли договор Мефистофеля с Фаустом. Мефистофеля играл премьер Ханнес. Он сидел в углу и наблюдал за Фаустом, который слонялся по кругу и пел под гитару, — текст, как мне кажется, взяли из Тагора. Вслед за словами Фауста «В тот час, как будет этот свет разрушен» Мефистофель начал горящими спичками в прах разносить свисавшие с потолка воздушные шарики, их было около сотни. Договор Фауста и Мефистофеля, естественно, вызвал всеобщую игру, где публике предлагали томатный сок, который Мефистофель цедил как бы из своей вены. Творящийся у всех на глазах ужас оказался в такой степени отчужденным, что когда Мефистофель выпил красную жидкость и крикнул: да это же томатный сок! — зал дружно засмеялся. Фраза «Дашь женщину, чтоб на груди моей / Она к другому взоры обращала» послужила толчком к темпераментным и остроумным манипуляциям с женским манекеном. Представление закончилось песней «Он, не ведая покоя, самого себя творит», у обоих исполнителей в руках бичи, которыми они щелкали над головами зрителей. Продолжалось все это три четверти часа. Большая часть, по моему мнению, была весьма забавна, но не могу сказать, что все. Иллимар очень ждал, что я скажу. Я попросил время на обдумывание. Публика еще не разошлась, обсуждали увиденное, курили. На некоторых представление произвело глубокое впечатление, они озирались вокруг остекленевшими глазами. Некоторые вызывающе смеялись и острословили — но это могло быть просто защитной реакцией. С Феликсом беседовала дама из отдела культуры. Феликс сдержанно улыбался и стирал пот со лба. Немного поразмыслив, я стал критиковать то место, где у манекена отрывают голову и при этом экстатически выкрикивают: о прекрасное мгновенье, продлись! — и с вызывающей последовательностью повторяют это несколько раз. Тебе не понравилось это место? — спросил Иллимар даже с каким-то азартом. Не то что не понравилось, сказал я неуверенно, но мне стало как-то не по себе. Правильная реакция, ответил Иллимар, так и должно быть, потому что мы в театре должны пережить собственную агрессию и страхи, чтобы в жизни от них избавиться. Откуда тебе известны мои агрессии и страхи, спросил я, что ты осмеливаешься переживать их вместо меня? Мои страхи в твоем представлении за мои же деньги. По твоим словам выходит, ты совсем помешался, сказал Иллимар. Такой образованный человек и несет такую чушь, иначе не скажешь. Ты уже о своих страхах и своих деньгах заговорил. Видно, тебе и того и другого страшно жалко. С такими мыслями лучше тебе к нам не приходить. Я нахлобучил шапку и вышел.
Но не слишком ли много я говорю о театре? Хотя я и не отрицаю, что именно театр является истинной темой данной книги (или это не так?), все же для разнообразия, я думаю, нужно рассказать и о так называемой личной жизни, ведь и у артистов есть личная жизнь, которая может быть театром, а может им и не быть, но которая законом ограждена и защищена от широкой публики. Годится такое определение или нет — это уж личное дело определяющего.
Иллимар пригласил меня в гости. Он снимал маленькую комнатку в частном доме на втором этаже. Часть мебели принадлежала, кажется, хозяину дома. Аста постаралась прикрыть вытертые места и пятна скромными ковриками, Иллимар развешал по стенам претенциозные театральные плакаты. Иллимар сразу ушел вниз на кухню варить кофе. Впервые я говорил с Астой с глазу на глаз. Выше я упоминал, что в ней было что-то материнское, но эта характеристика не означает ничего, кроме того, что любая рослая и сильная женщина связывается в моем подсознании с матерью, потому, видимо, что всякий ребенок помнит мать большой, больше самого себя; во-вторых, есть еще и соответствующая литературно-мифологическая традиция (упомянем хотя бы гигантскую женщину, все время повторяющуюся в фильмах Феллини). Аста оказалась довольно славной женщиной, только вот разговор у меня с ней не получался. Но она сама приветливо заговорила, спросила, что я видел в театре в последнее время. Я назвал то, другое, но в подробный анализ вдаваться не стал, в том числе и «Фауста». Просто вытащил из портфеля бутылку коньяка. Ого! — сказала Аста, и я с удовольствием отметил, что у этой женщины, видимо, губа не дура. Не дожидаясь, пока Иллимар управится с кофе, я открыл коньяк, налил рюмки, и мы выпили — за знакомство, как сказала Аста. После этого возникла неловкая пауза. Но пришел Иллимар с кофе и, разумеется, спросил, возникли ли у меня новые мысли насчет «Фауста». И этот вопрос я парировал и начал вспоминать всякие смешные школьные истории. Про Иллимара можно было рассказать кучу смешных историй. Аста смеялась от души. Я сам удивился, как все-таки много забавного творится в этом мире. Иллимар опрокидывал рюмку за рюмкой, все ускоряя темп, с каким-то судорожным бульканьем. Он вовсе не был никакой алкоголик, но эту опасную наклонность я замечал за ним и раньше — паническое стремление поскорее выпить все. Одно из двух: либо он старался наверстать упущенное в детстве, либо ему казалось в такие минуты, что скоро во всем мире кончатся запасы водки. Наконец, было в этом и нечто от столь свойственного нашему поколению: где-бы-достать-еще-бутылку. И пусть бы он пил сколько душе угодно, так нет, он уже начал нам мешать всякими неуместными идеями, например пристал к Асте, чтобы та лучше относилась к Феликсу. Мне не нравится, если я беседую с женщиной, а кто-то встревает, бубнит заплетающимся языком: слушай, почему ты Феликса не любишь? Или: ты просто не понимаешь Феликса. Да что ты носишься со своим Феликсом, заорал я, дай нам поговорить спокойно! Аста была со мной совершенно согласна: да, все Феликс и Феликс, взял бы уж тогда этого Феликса в жены! Это со стороны Асты было опрометчиво сказано. Последовала долгая, томительная пауза. Иллимар сидел, трагически уставившись в пустоту, вцепившись тонкими руками в диван. Тихо, раздельно он сказал Асте: ведь я же просил, чтоб ты меня поддержала, если мне трудно будет, ведь я же просил, жена, чтобы ты держалась меня. Как мне тебя держаться, если ты своим Феликсом всем уши прожужжал? — спросила Аста весьма реалистически. Ну ладно, крикнул Иллимар, ладно, коли так! Он встал и ушел к окну. Аста пожала плечами. Такой слегка гротескный стиль в этом семействе меня поражал: актриса-практик, совершенно без претензий, простое и, может, чуточку пошлое создание, и муж-теоретик устраивают домашний театр в высоком штиле. Конечно, не особо удачны были последующие действия Асты — она взяла с полки коробку с фотографиями и протянула мне, посмотри, мол, пока этот дурень успокоится. Иллимар стоял неподвижно, но спиной отмечал все. Я рассеянно перебирал обычные семейные фотографии (на вечеринках, у моря) и ждал очередного взрыва. Каковой скоро и последовал. Иллимар налил себе большой бокал коньяка, выпил единым духом, постоял немного, потом взял из коробки верхнюю фотографию (насколько помню, самую обыкновенную, ничего особенного не значащую, а впрочем, откуда мне знать), разорвал ее в клочки и бросил сверху на Асту. Аста встала и, хлопнув дверью, вышла. Мы молчали. Я не собирался морализировать, Иллимар — извиняться или объяснять свои поступки. Было ясно, вечер испорчен, и по вине Иллимара, но уходить все равно надо было, и мы пошли.
Читать дальше