Как я.
Мы идем молча, огибаем пересохший бассейн, замусоренный шелухой, апельсиновыми косточками и птичьим пометом. Я на секунду закрываю глаза — не хочу вспоминать Жеральдину голой, потому что, наверно, из-за этого, особенно из-за этого, я не хочу ее видеть; мне больно, тяжело, безотрадно признаваться себе, что Отилия исчезла, а мои мысли и плоть приходят в волнение, страдают от одного присутствия этой единственной в мире женщины, Жеральдины, от ее голоса, ее молчания, даже когда я застаю ее в трауре и в отчаянии, в трауре, хотя ее муж еще числится живым.
Мы садимся за стол перед ослепительным фарфоровым сервизом, солнце наполняет столовую. Я сразу замечаю, что, словно продолжая мой кошмар, нас поджидает Ортенсия, жена Маркоса Сальдарриаги; она сидит во главе стола и, когда я вхожу, обращается ко мне с таким сюсюканьем и с такими вздохами, что я с опозданием сожалею о принятом приглашении.
— Вы уж позаботьтесь, учитель, — говорит она, — чтобы Отилия, когда вернется, не увидела вас таким неухоженным. Ведь Бог обязательно поможет ей вернуться. Если бы она погибла, мы бы уже знали. Она жива, учитель, дело известное, — она протягивает руку и быстро проводит пухлой, мягонькой ладошкой по моей руке, — я вам прямо скажу: уж если они увезли моего мужа, такого толстяка, что не мог ходить, вдвое толще меня, — она печально улыбается, — то, конечно, они смогли увезти Отилию, которая не была ни старой… вернее, простите… не старую и не толстую. Ждите известий, они придут, рано или поздно. Они еще сообщат вам, сколько хотят получить. Но пока вы ждете, следите за собой, учитель, почему бы вам не подстричься? не теряйте веры, не забывайте есть и спать, я знаю, о чем говорю.
Стол накрыт; это похоже не на обычный завтрак, а на совмещенный с ужином обед. Рядом со мной сидит мальчик с пустыми глазами, с лицом живого мертвеца, что особенно страшно видеть в ребенке.
Жеральдина указывает на стол.
— Смотрите, учитель. Ортенсия подарила нам лангустов.
— Лангустов мне самой подарили, — уточняет Ортенсия, словно извиняясь, и сглатывает слюну. — Это напоминание об обеде с генералом Паласиосом. Ему привезли на день рождения сто двадцать живых лангустов. Из Канады, живых. Думаю, они проехали все города.
— И есть фаршированные бананы, учитель, — перебивает ее Жеральдина. — Их я приготовила сама. Вы знаете, учитель, их делают из переспелых бананов, настолько черных, что они уже пахнут медом, фаршируют сыром, окунают в смесь муки, яйца и молока, а потом жарят…
— Мне только черный кофе, — говорю я, — пожалуйста.
Я не понимаю, что говорят мне эти женщины. У меня нет ни малейшего аппетита. Единственный способ скрыть, как я устал от всех и вся, — обратить внимание на мальчика, сделать вид, что он меня интересует. В конце концов, разве не пролетела вся моя жизнь среди детей, в сражениях с ними, в радостях и волнениях за них? Я смотрю на мальчика. Я помню, как он бегал по саду, помню все его игры, веселый нрав, почему он молчит? Прошло уже много времени; может быть, теперь его слишком разнежили? не принесет ли ему больше пользы резкое замечание или хотя бы окрик, который бы вывел его из спячки? Он держит ананасовый туррон [15] Сладость, похожая на халву.
и собирается его есть. Вес-то он как раз набрал и стал таким же, как прежде, может быть, даже толще. К изумлению мальчика и его матери я отнимаю у него туррон и спрашиваю: «Где Грасиэлита?» Он оторопело смотрит на меня — наконец-то, думаю, он на кого-то смотрит. «Вот что, — говорю я, почти вплотную наклоняясь к его лицу, — пришел твой черед говорить. Что с Грасиэлитой, что с ней произошло?»
Одно имя Грасиэлиты заставляет его встрепенуться. Он смотрит мне в глаза, он меня понимает. Жеральдина зажимает рот рукой, чтобы не закричать. Но мальчик молчит, хотя безотрывно смотрит на меня. «А папа, — спрашиваю я его, — что с твоим папой, каким ты его оставил?» Глаза мальчика наполняются слезами, не хватало только, чтобы он сейчас заплакал, ну и пусть, так даже лучше: печальный предлог, чтобы встать из-за этого нелепого стола. Мальчик смотрит на необъятную Ортенсию Галиндо с окаменевшей над лангустами рукой. Потом переводит глаза на мать — похоже, он наконец-то ее узнал. И произносит словно вызубренный текст:
— Папа велел тебе передать чтобы мы вдвоем уезжали чтобы ты все забрала чтобы не ждала ни одного дня так велел передать тебе папа.
Обе женщины вскрикивают.
— Уезжать? — изумляется Жеральдина. Она уже обежала стол, чтобы обнять сына. — Уезжать? — повторяет она, пряча лицо и слезы на его груди. Но, видимо, тут же глубоко задумывается, глядя на нас с Ортенсией. Она обрела повод и предлог уехать (я вижу это по ее вспыхнувшим надеждой глазам).
Читать дальше
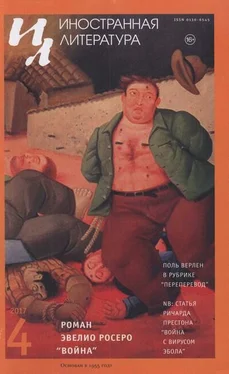
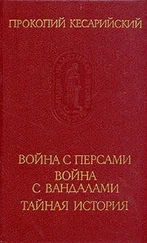


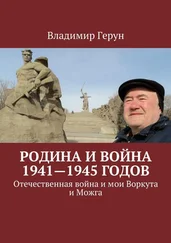

![Станислав Сергеев - Всегда война - Всегда война. Война сквозь время. Пепел войны (сборник) [сборник]](/books/408174/stanislav-sergeev-vsegda-vojna-vsegda-vojna-vojn-thumb.webp)





