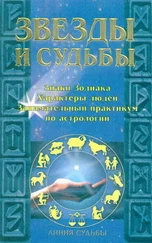Мелькнул указатель перед мостом, и пронеслись перила, рассекая на дифракцию мутные серые волны грязного ерика. Гулкой барабанной дробью заколотила брусчатка в амортизаторы. Началась промзона, унылая, серая, монохромная. Будто все краски разом выключили. И небо посерело, заскучало, отвернуло солнышко, будто спиной.
А старухе словно нипочём были эти метаморфозы природы. Взгляд её устремился сквозь пространство и время в бесконечность, и, наверное, виделись ей светлые безбедные дали чудесных садов Элизиума.
Мечта и надежда — сёстры, по сути, последнее, что не отнять у человека, если он сам от них не открестится. Вот только за границы бытия одной забираться уже бессмысленно, а вторую оставляют при входе.
— Незнакомым и соседям ты надежды не оставляешь, а как же близкие? — задал последний вопрос шофёр, чтобы убедиться в правильности своего выбора, так как путь подходил к концу.
— Ты про семью мою непутёвую? Скажу тебе, как на духу. Никто из всей этой орды треклятой и не подозревает, какой их ждёт камуфлет! Они уже давно всем кагалом, от мала до велика, стаей воронья вокруг кружат. На кости мои облизываются, ждут с нетерпением, когда я коньки отброшу, чтобы вцепиться в то, что от меня земного останется, разорвать всё и испоганить, пустить пухом и клочками, повеселиться напоследок на сатанинской этой тризне. Чуют, что жирный кусок их ждёт. Как же, целая квартира, да всё, что в ней, да денежки на сберкнижке. Тело моё не остынет ещё, как завернут его в грязную простыню, землицей забросают и кинутся делёж учинять. Плевать мне на это, душа моя выйдет из туловища, ни к чему оно мне станет, лишь бы в землю сунули, хоть как. А уж батюшка наш приходской за меня и упокойную прочитает, и сорокоуст и всё прочее. Я с ним уже обо всём договорилась. Вот только ждёт этих гиен, что родственниками считаются, облом великий. Они уже, наверное, давно всё прикинули, кому что достанется, распределили каждую ложечку. Скоты корыстные, дармоеды неблагодарные, подонки, шалавы подзаборные! Да и просто, суки рваные. Так вот. Ходила я давеча к нотариусу, составила там новое завещание. Про старое-то они знают, да я подсуетилась, переписала всё наново. Если по старому там так и было сказано, кому что и сколько, то теперь всё поменялось. Хрен с маслом им теперь от советской власти по всем их наглым харям. Квартиру и большую часть денег я приходу нашему отписала. Уж батюшка позаботится, чтобы жильё в правильные руки ушло. И на деньги похороны мне такие отгрохает, как положено. Ещё и много останется на благоустройство церквушки нашей. Вторую половину денег я тому приюту пожертвую, где собачку брала. А родственнички мои, кто захочет, пусть её туда отнесут сами. Тому, кто это сделает, уж так и быть, хозяин приюта пожалует от моих щедрот тысячу рублей! А мебель, скарб и тряпьё приставы по детским домам и домам престарелых распределят сами, как получится. Как тебе такое?
Старуха улыбнулась, показав мутный пластиковый оскал вставных челюстей и громко, басовито расхохоталось. Прозвучало это неожиданно, демонически, до мурашек по коже. Шофёр, хоть и выбрал нужную дорогу, но от такого демарша содрогнулся невольно. А машина нырнула вдруг в тоннель и опять досадливо, предательски мигнули и потухли фары.
Старуха перестала ржать, и уголки её тонких змеистых губ поползли в страхе вниз, но шофёр уже приноровился к мраку, подвернул, скинул скорость и утопил педаль, заставив тормоза скрипнуть. Пассажирку чуть бросило вперёд. Машина встала, но двигатель продолжал тихо тарахтеть на холостых.
— Ты куда меня завёз, дьявол? — она мелко трижды перекрестилась.
— Приехали, уважаемая, готовьте мелочь на расчет! — щёлкнул светом в кабине шофёр и фальшиво улыбнулся.
— Чего темно-то так, хоть глаз выколи?
— Приёмный покой. Бюджетники, что с них взять? Опять у них лампы погорели, а монтёр пьян лежит. Дело житейское, я такое тут постоянно вижу, уже в темноте ориентируюсь, как днём.
— А фарами посветить?
— Тут моя оплошность. Проводка старая, бывает, коротит. Починю обязательно.
— Ну ладно. Куда тут идти?
— Как выйдешь, сразу прямо. Руку вытяни и нащупаешь ручки дверные. А за ними уже и то, за чем приехала. Там и Асклепий, и Панацея тебе от всех бед, и всё, что душе угодно. Вылечат твои раны, и телесные, и духовные.
— За духовные не беспокойся. Я сама разберусь, что там за коновал твой Асклепий. На вот, держи, что заслужил.
Старуха полезла в горловину кофты, выставив толстые локти, закрывая грудь от возможного нескромного взора шофёра. Раскорячилась так, словно не из зоны декольте расчет доставала, а почти изо рта. Потом протянула в пальцах две монеты. Шофёр принял их, не рассматривая.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу