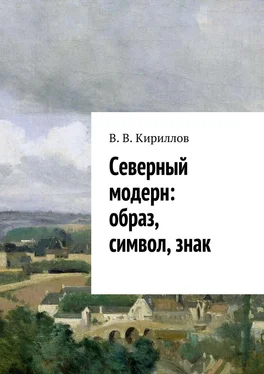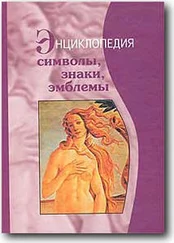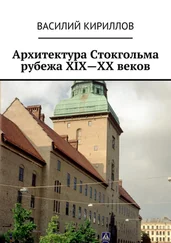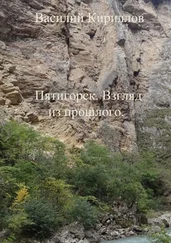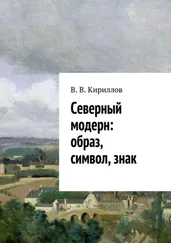Тем не менее, столица Латвии – Рига – больше напоминала по своему облику европейские, нежели русские города. Вот как, например, ее оценивал в 1878 году один из русских путешественников:
«Это губернский город, но во всяком случае такой, каких у нас нет… Содержится город… очень опрятно; о таких зловонных местах, какие встречаются в Петербурге по всему протяжении Фонтанки… здесь нет и помину». 87
Такое стремление к чистоте и аккуратности было подлинным выражением «германского духа». Немецкие обычаи и порядки, действительно, наложили определенный отпечаток на общественную и культурную жизнь латышей. Из Германии в большом количестве поступала в Ригу литература различного содержания, журналы и газеты. В числе прочих, в Латвию доставляли и специальные периодические издания по архитектуре и строительству, под влиянием которых формировалось творчество местных зодчих.
Как известно, в Риге во второй половине ХIХ века были произведены серьезные мероприятия по реконструкции и благоустройству городского центра. Морально устаревшие фортификационные сооружения, по царскому указу, было решено снести. С данной задачей успешно справились рижский городской архитектор И.Д.Фельско и, помогавший ему, инженер О. Дитце. Вслед за этим, в соответствии с отдельным распоряжением, срыли и высокие земляные валы цитадели. Одновременно, в Риге был снят запрет на строительство в предместьях многоэтажных каменных зданий.
Все это существенно изменило пространственно-планировочную структуру латышской столицы. Вокруг исторического «ядра» Старого города образовалось полукольцо зеленых бульваров, идущих по линии водного канала. Тем самым, были созданы благоприятные условия для создания новых кварталов, состоящих из репрезентативных фешенебельных зданий. Постепенно, доходное жилищное строительство в городе превратилось в одну из важных отраслей экономической деятельности. Местная национальная буржуазия начала понемногу вытеснять своих конкурентов из Германии и России. Согласно цифрам статистики за 1907—1913 гг., среди рижских домовладельцев уже преобладали латыши. Им принадлежало около 45% доходных домов. Немцы владели 31% фонда наемного жилья, а русские – 10%. В Латвии в эту пору также издавалось уже около 300 газет и 160 журналов на родном языке.
На исходе ХIХ века Рига была пятым по величине городом Российской империи (после Москвы, Петербурга, Киева и Варшавы). Порт на побережье Балтийского моря, с давних пор функционировавший в латышской столице, занимал первое место по товарообороту. В 1900 году, рижские фабрики и заводы дали около 5,7% промышленной продукции России.
Бурный рост экономики и развитие капиталистических отношений повлекли за собой заметное увеличение населения в Риге. Оно приблизилось к полумиллионной отметке. Во многом изменился и национальный состав жителей города. В поисках хорошо оплачиваемой работы в Ригу с провинциальных окраин перебралось немало латышей. Из общего числа жителей города их количество составило чуть менее половины. При этом русское и немецкое население Риги не возросло, но зато наметился приток в латышскую столицу представителей других национальностей. Так называемые «иностранцы» теперь уже составляли 25% на количественной диаграмме городских жителей.
Рост национального самосознания в Латвии наметился еще во второй половине ХIХ века. В сфере культуры, как и в Финляндии, это выразилось поначалу в повышенном интересе к местному фольклору. В отличие от финнов, латыши не имели собственного национального эпоса. Его как бы заменила героическая поэма «Лачплесис», написанная А. Пумпурсом на основе произведений устного народного творчества в 1890-е годы. Но, с другой стороны, в Латвии никогда не ослабевал интерес к национальным сказкам, песням и традициям крестьянских праздников. Особенно почитался обряд, связанный с Лиго. Этот праздник у латышей был аналогом славянскому народному празднику Ивана Купала. В Лигов день почитался языческий бог плодородия Янис. Вместе с тем, это был также праздник летнего солнцестояния. В самую короткую ночь в году (с 23 на 24 июня) девушки и юноши, прыгали через костер, обливались водой и искали в лесу сказочный цветок папоротника. На праздник также готовили специальный круглый сыр с тмином, символизирующий солнце. Травы, сорванные накануне Янова дня, могли обладать чудодейственной, исцеляющей силой. Участники праздника облачались в венки из полевых цветов и дубовых листьев. В ритуальных народных песнях прославлялся усердный труд, а в припевах многократно повторяли восклицание «Лиго! Лиго!». По некоторым источникам, так у древних латышей называли бога веселья. Вот, например, краткая строфа из национального фольклора:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу