— Боитесь, — удовлетворенно сообщил он. — Боитесь себе признаться. Правильно — я тоже испугался. Знаете, на войне так не боялся, как давеча, когда вы говорить начали. Вот вы спрашиваете, не я ли тот камень бросил. Нет, не я, а Анатолий Сергеевич Гостевой, сорок семь лет, водитель-дальнобойщик. Женат, двое детей. Практически не пьет, в кабине икон, как в музее Рублева. Здоровый такой дядька, колесо, наверное, без домкрата меняет. А тоже ведь перепугался, как младенец. Со страху и бросил. Убивают-то чаще всего именно со страху. А умирают как раз те, кто не боится. Вот такой, Михаил Ильич, парадокс. Так что мог бы, наверное, и я кинуть — очень уж мне тогда жутко сделалось. А у меня ведь и оружие с собой было, между прочим. Так что Анатолию Сергеевичу, может, и спасибо сказать надо. Он уже здесь пытался себе голову о стенку разбить, еле удержали. Теперь второй час стоит на коленях и молится. Кстати, если я забуду, вы уж напомните мне, чтобы мы после к нему зашли, а то жалко мужика. Скажете, что зла не держите, и все такое. Сможете?
Миряков молча кивнул.
— Я бы его сразу отпустил, но вдруг он на себя дома руки наложит? Или его фанатик какой-нибудь зарежет? Так что лучше пусть здесь посидит пару дней, пострадает.
Михаил Ильич закрыл глаза и некоторое время сидел, слушая, как что-то дергается под кожей в том месте, куда попал камень.
— Еще какие-нибудь просьбы и пожелания? — спросил он.
Башмачников не ответил, и Миряков, открыв глаза, увидел, как тот, разведя руки в стороны, боком, по-крабьи, выбирается из-за стола, слишком близко придвинутого к стене. Хозяин кабинета, майор Полуян, носил свою жизнь, как вериги, и копил маленькие неудобства, чтобы судьба с ним однажды расплатилась. Как другие оставляют любимым лучший кусок, красивую, с машинками, чашку, удобное место, Полуян берег счастье для другого себя, старого или мертвого. Вот и сейчас он охотно уступил свой кабинет и спал на табурете в дальнем углу дежурки, прижавшись ухом к синей прыщеватой стене. В последний момент фээсбэшник все-таки задел бедром столешницу, и чай расплескался на каком-то документе коричневой морщинистой звездой. Башмачников выволок за спинку на середину кабинета деревянный стул, сел зачем-то метрах в трех от Михаила Ильича и весь вытянулся вперед, зажав руки между коленями.
— Просьба у меня, Михаил Ильич, одна, — медленно произнес он, не встречаясь с Миряковым глазами, но взглядом, словно теплыми и тупыми на концах пальцами, перебирая складки его лица и гадая, какая из них дрогнет; Михаилу Ильичу даже показалось, — что он чувствует идущий от рук Башмачникова терпкий и опрятный запах согласившегося стареть мужчины. — И не мне, наверное, об этом просить, да никто другой ведь не попросит. Праведники, они молчат, им бы поскорее на небо попасть, и ладно. Ну да ничего, так оно, может, и лучше: кто в дерьмо глубже залез, тот громче и кричит. Может, и услышишь ты меня. Я прошу: не спеши. Мы еще не готовы, ты же видишь. Мы ведь не такие, как сейчас, когда боимся и торопимся, мы лучше. И я прошу не за себя — мне-то уже не отмыться, — но есть другие, ты полюбишь их, когда узнаешь. Когда они не будут так испуганы и перестанут делать глупости от страха и одиночества. Ведь была же прекрасная идея с атомной войной — моментальный снимок человечества. Сейчас вылетит птичка. Сейчас вырастет грибочек. Как будто выходишь из леса на поляну, откинув паутину, словно прядь волос, а там солнечный свет и стайка грибов. Тогда, наверное, страшнее всего было работать космонавтом: утром просыпаешься и боишься выглянуть в иллюминатор. Вдруг Земля уже пустая.
Башмачников сидел под большой бронзовой люстрой, и Михаил Ильич видел, как над его головой кружится бумажная пыль от тысяч мертвых документов. Казалось, будто весь кабинет и оба его временных обитателя медленно растворяются в желтом электрическом свете.
— Сан Саныч, вы сошли с ума? — спросил Миряков тем тоном, каким обычно интересуются у коллеги, подстригся ли он.
Башмачников откинулся на стуле, сцепив руки за его спинкой.
— Ах, если бы, Михаил Ильич, если бы, — ответил он уже своим обычным голосом. — По-прежнему умен, как бес. Вот и про вас раньше всех догадался. Вы еще сами не начали догадываться, а я уже все знал.
— И о чем же вы догадались?
— Вы бог, — просто ответил Башмачников.
Миряков почувствовал, как внутри, там, где сердце, лопнуло и растеклось что-то теплое, протолкнулось через горло, заполнило голову. Он посмотрел на свое отражение в оконном стекле — белый бинт и темный пустой овал лица под ним.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
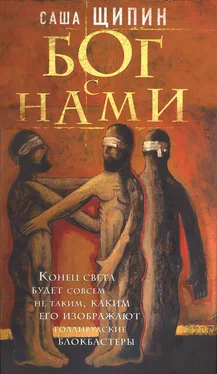








![Александр Щипин - Идиоты [сборник]](/books/429316/aleksandr-chipin-idioty-sbornik-thumb.webp)


