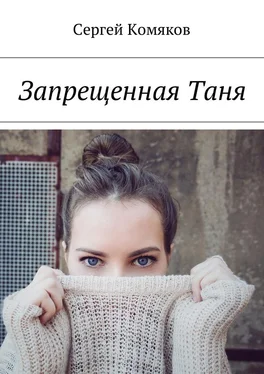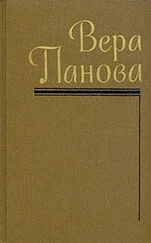Сергей Васильевич задумался. Через пару мгновений он тихо спросил:
— Виноваты в чем? В сталинском терроре, в войне?
Танюша покачала головой:
— Они виноваты в своей жизни. Они могли бы жить иначе.
— Вы действительно так думаете?
— Вам кажется, что я говорю глупости. Вы думаете, что студентка, которая только пишет диплом уже начинает давать советы тем, кто пожил жизнь и сложную жизнь. Вы считаете, что если бы нас поместить в т время, то мы справились бы еще —уже.
— Отчасти, — рассеялся Сергей Васильевич, — отчасти вы правы. В нашем дискурсе существует убеждение, что люди, жившие раньше были крепче нас. Они вынесли то, что мы бы не смогли вынести. Иначе говоря — их плечи были крепче наших.
Танюша как будто ждала такого ответа:
— Вы не правы. Они жили так потому, что они были такими. Их интересовали пайки, карьеры, места и комнаты в коммуналке. Они мало интересовались тем как это будет достигнуто. И какой ценой.
— А нас всех это сильно интересует, — спросил Сергей Васильевич.
— Сколько я прочитала о Бертольц, то меня поразило то, что она постоянно пишет о коммуналках. Но она никогда не пишет о тех кто жил в этих квартирах до того как квартиры превратили в коммуналки. И куда делить бывшие владельцы и их наследники. Они все были Шариковы, а Союз был коллективным Шариковым. Иваном родства непомнящим.
— Эко как, — Сергей Васильевич был действительно поражен. Услышать такое в две тысячи шестнадцатом было очень необычно. Лакированный глобус Советского Союза треснул. Вот после этих ваших слов, где-то в ментальном пространстве зарыдали миллионы советских людей.
— Обманутых и недалеких, — сказала Танюша.
— пусть так, — ответил Сергей Васильевич, — но миллионы.
— Представляешь, сейчас разбирали рукопись одного провинциального писателя, — Миша посмотрел в блокнот, — Бреева М. В. изумительный текст. Я от скуки даже решил придумать новую концепцию женщины. Вот есть толстовская концепция женщины — женщина или дура или самка. Наташа Ростова сначала была дурой, а потом стала самкой и была счастлива, а Анна Каренина навсегда осталась дурой и мучила всех вокруг себя. А вот у этого Бреева, куда все сильнее. Как тебе такая фраза: «Она была в белой кофточке и синих туфлях».
Татьяна хмыкнула:
— Глупость это не основание для унижения человека.
Но Миша не унимался:
— У него идея такая, есть идея раздеть даму, не хочется видеться ее одетой ниже пояса, но при этом нет понимания, что там у нее есть. Вот она без одежды, а там пустота. Нет там ничего. Ни неизведанных дорожек, ни невиданных зверей. Пустота и все. Я никогда не понимал, что сложно обдумать фразу.
— А никогда не понимала, почему не надо думать и не пошлить.
— Ты думаешь здесь пошлость?
— Пошлость это поведение. А эта фраза просто глупость. И не такое пишут. Он просто не знает, что можно писать иначе. Кроме Фурманова и Серафимовича он ничего и не читал, а вот есть милые прекрасные люди, которые знают как надо вести себя, а ведут иначе.
— Ясно, — Миша захлопнул и скинул с носа очки, — сегодня ты опять прочитаешь мне лекцию о морали.
— Но это ведь вы всей кафедрой пропускаете книги, в которых Зощенко и Ахматова представлены как предатели. И вы после этого не подонки?
Миша потер переносицу, очки выдавили на ней глубокую канавку. Потом Миша посмотрел на Татьяну:
— Есть вещи, с которым надо мириться.
— И сейчас, когда упыря выбросили из мавзолея?
— И сейчас, — медленно произнес Миша и повторил по слогам, — и сейчас. И завтра продеться. И я не знаю когда это кончиться.
— Но ты, же знаешь, что, ни Зощенко, ни Ахматова, ни Гумилев не были врагами.
— Я знаю, — Миша акцентировал ударения на слово «я», — я это знаю, а они нет. Они там этого и знать не хотят. Они говорят, что все это была акция устрашения. Надо было напугать писателей.
— Акция устрашения? — крикнула Татьяна, — Сумасшедший доходящий Осип это устрашение? Ты думаешь от этого станет страшнее, чем уже было?
— А я слышал, что Гумилева помиловал Ленин, — уверен, сказал Миша, — но телеграмма опоздала.
— И на кого все свалили? Кто стал у них крайним? Или Гумилев все же думал захватить Ленинград и убить товарища Сталина?
— Тише, тише, — не надо так кричать, — Миша оглянулся на вентиляционную решетку.
— А все же тише? Не надо кричать? То есть двадцатый съезд ничего не решил? Мы все так же должны думать, что говорим, и писать не то, что думаем?
— Всегда надо думать о том, что мы говорим, — в Мише уже проснулся функционер гот литературы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу