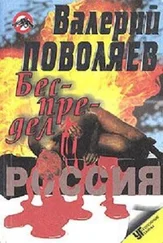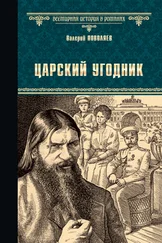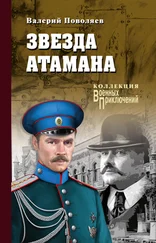Распухшие руки у нее не то, чтобы распухли совсем, а скрючились, по ночам ныли нещадно, и Солоше казалось, что в мире нет лекарств, которые могли бы усмирить свирепую боль, допекавшую ее.
Случалось, она начинала тосковать… Тосковала по дочерям своим, которых жизнь разметала по точкам диаметрально расположенным: одна находилась на Крайнем Севере, за пределами всех мыслимых и немыслимых полярных широт, вторая на юге; тосковала по мужу своему Василию, которого она так и не простила и которого ей ныне очень не хватало, – если бы все, что произошло с ним много лет назад, произошло бы сегодня, она не стала бы его клясть; тосковала по своему прошлому, по Волоколамскому уезду с его строгими, прибранными деревнями, по кладбищу родителей, по товаркам, с которыми любила петь протяжные старые песни, когда была девчонкой, по корове Зорьке, запомнившейся с детства – корова давала больше всех в селе молока… В общем, было много чего такого, что вызывало у Солоши благодарные воспоминания.
Иногда она тосковала даже по продуктовым карточкам, отмененным после войны. Раньше хоть и голодно было, но кусок хлеба и картошка с котлетой были гарантированы каждому – карточки их обеспечивали, а сейчас только вода из крана была гарантирована, все остальное только за деньги, и то после уплаты. Хорошо, если рубли шуршат в кошельке, а если не шуршат?
В общем, получается, что московский житель во время войны был гораздо защищеннее, чем ныне.
Не выдержала Солоша, сморщилась обиженно. Верку бы сейчас сюда, Полинку – вот хорошо бы было! Но не было ни той, ни другой – только Ленка с Иришкой, да и они так мало бывали дома, что ими тут почти не пахло. Ленка постоянно находилась на работе (там она и китель с погонами держала в шкафу, хотя Солоша никогда не видела ее в форме), Иришка – в институте.
Институт у внучки какой-то уж очень форсистый, все завидуют – и с театром связан, и с кино – студенты горластые, напористые, оглушают не только своими голосами в минуты споров – оглушают даже, когда говорят шепотом.
Задумалась Солоша над жизнью своей и не заметила, как заснула. Прикорнув на краю стола, сидя на уголке стула.
Что ей снилось – не запомнила, только очнулась она от громких голосов, раздававшихся у нее едва ли не над головой. Солоша вскочила, протерла поспешно глаза и увидела рядом с собою смеющуюся Иришку.
– Прости, бабуль, – вскричала та радостно, – мы ввалились всем курсом заниматься – у нас на носу зачеты… Не ругайся, пожалуйста!
– Да ты чего, Ириш, я и не думала ругаться. Занимайтесь, мне это будет приятно. И интересно.
– А у нас, бабуль, есть чего-нибудь такое… Ну, червячка заморить, а?
Солоша оглядела громкоголосых, уверенных в себе студентов, – вот они, будущие театральные деятели, которые пойдут дальше Станиславского и Немировича-Данченко, покормить их надо обязательно, чтобы сила была в руках, иначе ведь уронят знамя лицедейского искусства на запыленный тротуар, и произнесла задумчиво:
– Есть большая сковорода и есть ведро картошки…
– Отлично! – прежним радостным тоном вскричала Иришка.
– И вам сейчас сковороду вкусной картошки приготовлю. Годится?
– Ой, бабуль! – восторженно закричала Иришка и, брызгаясь смехом, захлопала в ладоши. – Это же очень здорово!
Молодость есть молодость, ей надо так мало, чтобы быть счастливой. Солоша покачала головой – хоть и было завидно этим раскованным молодым людям, но молодости их она не завидовала, просто хотелось ей, чтобы жизнь у Иришкиных друзей сложилась на пять – так, как надо, чтобы радостей было побольше, чтобы звезды светили им ярче, чем другим людям… Дай бог всего этого!
Кухня в их большой квартире по-прежнему была местом общих сборов, площадкой ристалищ, пространством для преодоления коллективных бед, теплым углом, где можно было не только погреть руки над пламенем керосинки, которую в Москве успешно вытеснял газ, но и погреть душу.
Единственное, что было плохо – до кухни не доходили ремонтные устремления обитателей квартиры номер четыре: комнаты у всех хозяев были отремонтированы, тараканы вместе со своим потомством и скарбом выселены в канализационные трубы – плавают сейчас где-нибудь в Москве-реке, любуются небом, а вот кухня как была темной, закопченной, горестной какой-то, так такой и осталась – ничего тут не изменилось.
У каждой семьи имелась своя тумбочка, покрытая потрескавшейся клеенкой – тумбочки часто заменяли здешнему люду обеденные столы и помнили запахи многих московских вин и колбас, в большом количестве тут «маршировали», перемещаясь с места на место, и самодельные табуретки – обязательные атрибуты столичных кухонь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу