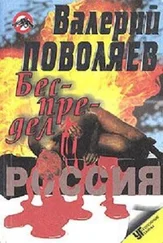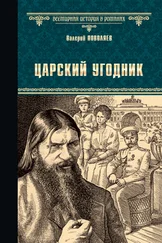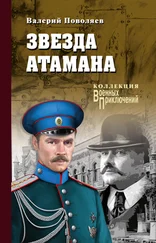Немного постояли у входа. Им было, что сказать друг другу, но оба они молчали. Потом Кирсанов, вздохнув зажато, поцеловал Елене руку, поклонился и, прихрамывая, двинулся вверх по бульвару, в сторону Чистых прудов. По дороге подхватил какую-то прутинку, небрежно хлопнул ею по штанине, затем откинул в сторону.
Елена по Сретенке направилась домой. Шла быстро, опустив голову и о чем-то сосредоточенно размышляя. Глаза ее были влажными.
Вере Егоровой все больше и больше нравился Николай Вилнис – литовец, который вопреки общей молве совсем не был медлительным молчуном. Разговаривал он нормально, если надо – говорил быстро, если не надо – медленно, по-разному, в общем.
На охоте, как говорили Вере, действовал стремительно, мог завалить любого зверя: и крохотного здешнего оленя, и голубого песца, чтобы любимой женщине было из чего сшить шапку и муфту, и огромного моржа, до тушенки из которого были очень охочи норвежские горняки из шахт Лонгьира, и сшибить на лету наглую чайку, выхватившую из бака с ухой большую рыбину… Словом, это был настоящий охотник. Профессионал.
Вилнис, когда появлялся в столовой, не сводил глаз с Веры. Приятели его смеялись громко:
– Смотри, зрение не потеряй!
Охотник тоже смеялся, крутил головой, но ничего не говорил. Вере Егоровой он также нравился. В нем имелся некий заморский шарм – Вилнис не был похож ни на одного из ее московских знакомых.
Однажды Вилнис принес ей стеклянную немецкую кружку, а в кружке этой, гладкой, без единого ребра, гнездилось что-то изящное, прозрачное, словно бы отлитое из стекла; Вера пригляделась и ахнула – это был цветок. Очень изящный, прозрачный, словно бы кто-то вырезал его из горного хрусталя, либо из куска векового льда.
Вековой лед бывает тверд, как сталь. И красив, как только что изготовленный, вытащенный из горнила, чтобы немного дохнуть свежего воздуха и окрепнуть, металл. А крепче стали металла, как известно, не бывает.
Глаза у Веры заинтересованно блеснули:
– Это мне?
Вилнис молча кивнул.
Роза, родившаяся в скоплениях льда, в мерзлоте, при минусовой температуре, и жить могла только при минусовой температуре. Вера держала ее в небольшой коробке из-под неведомого норвежского товара за форточкой, на улице.
Когда надо было полюбоваться диковинным цветком, доставала коробку из-за окна, открывала, и восхищение возникало на ее лице: знал все-таки литовец, чем можно удивить, а потом и покорить женское сердце.
Напарница Верина тетя Кира тем временем начала хворать, но не годы стали допекать ее, не Шпицбергена с о его жестоким климатом, а то, что сын, который, по ее мнению, был жив, до сих пор не нашелся. Тетя Кира горбилась от неизвестности, пила лекарства, иссушала себя.
Несколько дней назад она зажгла на столе свечу, достала фотокарточку Азата, положила рядом с подсвечником. Долго вглядывалась в родное лицо, пыталась удержаться от слез, но не удержалась, слезы взяли верх, глаза наполнились, на щеках возникли мокрые дорожки.
Кое-как справившись с собой, тетя Кира затеяла очередное гадание (способов она знала много), всхлипывая и промокая глаза платком, выдернула из головы длинный темный волос, поколдовав немного, свила петельку и подвесила на него свое обручальное кольцо.
Установила кольцо прямо над фотоснимком сына.
– Ну, Азат, Азат… Отзовись, – прошептала она призывно, моляще и в это же мгновение кольцо начало шевелиться, двинулось в одну сторону, в другую, словно бы определяя, куда же устремиться, потом неспешно совершило круг над фотокарточкой. Тетя Кира свободной рукой смахнула слезы с глаз.
– Видишь, Вера, жив Азат. Но не говорит, где находится.
Направление, по которому теперь двигалось кольцо, было одно – по часовой стрелке.
– Он слышит меня, – прошептала тетя Кира, – отзывается, только не может сказать, где находится…
За окошком вскинулся ветер, с силой всадился в стекло, попробовал выдавить его, но не справился, отступил; сделалось тихо, так тихо, что у Веры зазвенело в ушах, едва слышимый голос тети Киры зазвучал сильнее.
На улице снова взвихрился ветер, пространство окрасилось в жутковатый красный цвет, задвигалось немо, беззвучно, всосало ветер в себя, родило внутри Веры ужас – ей показалось, что Шпицберген горит. Полыхает самым настоящим красным пламенем. Земля горит, лед горит, небо горит – все горит, словом.
Она втянула голову в плечи, сжалась в комок: неземное северное сияние – штука колдовская, оно всегда рождало в ней болезненный нервный трепет, ужас, парализовывало – она никак не могла привыкнуть к этому явлению.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу