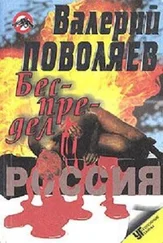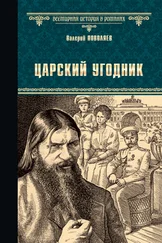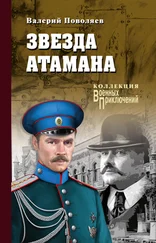– Семь.
– Семь, семь… А земное?
– Четыре.
– В школе я всю жизнь был хорошистом, получал четверки. Выходит, по вещевой принадлежности я самый что ни есть земной человек. Ты, надеюсь, не семерки получал?
– Нет.
– Значит, говоришь, четыре части света, четыре времени года, четыре типа характера, четыре группы крови?
– Гляди, запомнил, – удивился Савченко.
– На войне я был четыре раза ранен, имею четыре ордена, в живых у меня осталось четыре родственника, у дома моего – четыре стены. Эх, Юра, Юра… Хотим мы быть лучше самих себя, лучше, чем есть на самом деле, да бодливой корове Бог рог не дал и не даст – существует суд выше нас, и мы ему подчиняемся со всеми нашими потрохами. Божий одуванчик права на все сто процентов – чего нам тратить слова?
– Неудобно как-то все получилось, – Савченко невольно вздохнул, – очень неудобно.
– Неудобно только с печки в брюки прыгать.
– Собственно, а чего мы на бедную старушку взъелись? Ведь она же хотела нам помочь. От всего сердца.
– От всего сердца, – Мосолков хмыкнул. – А взъелись за то, что не в свое дело сунулись.
– Да ты распространялся так, что только глухой мог не услышать.
– Ладно, ладно, и ты туда же, – проворчал Мосолков, – чужие разговоры все равно слушать невежливо, даже если они громкие, и тем более невежливо давать советы. Ну и третье – перед старухой неудобно. Ведь все-таки мы не пальцем деланные.
– Вот то-то и оно – неудобно. Но она жизнь свою уже прожила, а мы еще нет. Старость надо почитать.
– Правильные слова, – пробурчал Мосолков, – только слишком заношенные. Ладно, хрен с ней, со старухой, – чувствовалось, что он остыл окончательно: люди, быстро раскаляющиеся, также быстро остывают, – забудем о ней.
Вечером они отправились «по адресу» – к гостинице «Москва». Мимо старушенции с вязанием они никак не могли пройти незамеченными, даже если бы беззвучно проскользили по воздуху, – а попадаться ей на глаза никак не хотелось, – ведь она-то знает, куда направляются боевые офицеры, поэтому Мосолков предложил:
– Давай в окно выпрыгнем! Подумаешь, второй этаж! Он у нас даже не второй, а полуторный, земля близко.
– Не поломать бы ноги! Обидно будет.
– Не стеклянные, не расколемся, – Мосолков распахнул окно и глянул вниз.
– Окно придется оставить открытым. Ничего?
– Авось, не ограбят. Й-эх, и не такие преграды форсировали, – Мосолков сел на подоконник, свесил ноги.
Хорошо, стенка дома, стоявшего напротив, была глухой, старой, облупленной, ее, похоже, никогда не ремонтировали, а земля внизу не была заасфальтирована. Более того, она сохранила рисунок грядок: кто-то когда-то пытался сажать здесь редиску и огурцы.
– С Богом! – сказал Мосолков и ушел вниз.
Савченко спрыгнул следом.
– Так-то оно лучше, – произнес Мосолков на улице, одернул на себе китель, поправил фуражку, становясь самим собою – удачливым фартовым офицером, победителем и командиром, которому сам черт не брат, и скорым опадающим шагом устремился по улице вниз.
Нельзя сказать, чтобы Савченко чувствовал себя так же хорошо, как и Мосолков, он был этаким нерадивым учеником, внутри все жало, мешало – идти быстро и легко не позволяли тесные щегольские сапоги, китель давил в проймах, теснил грудь, поэтому и дышал Савченко не так, как дышал Мосолков, ватные накладки в плечах, на которых так ладно сидели погоны, тоже мешали, были чужими, рождали ощущение неуклюжести, собственной неполноценности, скованности – то самое, чего никогда не было с Савченко на фронте, сердце, которое вообще не должно было ощущаться, ощущалось, хотя Савченко был молодым, до возраста Христа еще тянуть да тянуть, и легкие ощущались, и в почках что-то кололо, и в печени щемило – словом, все было не так.
Савченко мешал самому себе, зажимался, должно было явиться некое диво, чтобы спасти его – Савченко даже чувствовал приближение этого дива, его легкие поспешные шаги, но ожидание оставалось ожиданием, диво не являлось и Савченко надо было самому бороться с собою.
Он покорно шел за Мосолковым и не мог идти – ему сжимало глотку, сжимало затылок, сжимало грудь, нечем было дышать.
– Ты чего? – наконец остановился Мосолков, вопросительно сузил и без того маленькие сажево-черные глаза. Глаза у него вообще превратились в закопченные булавочные головки, обмахренные редкими прямыми ресничками.
– Дыхания не хватает, – признался Савченко, – ранение.
– Чего раньше не сказал, – Мосолков ухватил себя пальцами за нос, помял его – движение было суматошным, смятенным, – а я, дурак, бегу, бегу… Извини!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу