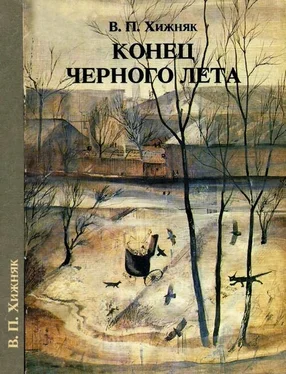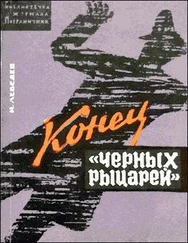— Теперь будет жить. Он родился даже не в одной, а в двух сорочках — два ножевых удара, и оба прошли мимо сердца и печени. Будет жить.
* * *
Воскрешение проходило трудно и долго. Много месяцев не выходил Завьялов вначале из колонистской, а потом уже и из межобластной больницы для спецконтингента. И, как обычно в подобных случаях, молодость и сила взяли верх. Он еще не полностью окреп, когда его привезли в ту же колонию и определили в тот же отряд — к Ивану Захаровичу Нечаеву. Майор, правда, находился в отпуске, но вскоре должен был выйти на работу. То, что горько заплакал Евгений Петрович, когда увидел его, Федор, хоть и был очень взволнован и растроган таким проявлением чувств, мог еще понять. Но когда он увидел, как закипели слезы в глазах дяди Сережи, человека по природе своей и по опыту лагерной жизни весьма далекого от сентиментальности, он был немало удивлен и сам чуть не разревелся, как малолетка, впервые попавший в КПЗ.
«Немало все же вокруг хороших людей. Ради этого стоит жить», — подумалось ему, и стало вдруг на душе так легко и спокойно. Но Дальский не успокаивался.
— Что же это они с тобой сделали? Почему ты их не назвал? По-че-му? — чуть ли не причитал он, всхлипывая.
— Не будем сейчас об этом, мой дорогой доктор! С ними у меня еще будет разговор.
— Не допущу! Ты слышишь, Федор, не допущу! Не в одиночку, а всем вместе нужно бороться с этими мерзкими людьми. — Евгений Петрович отчаянно жестикулировал и даже кому-то показал кулак.
Федор рассмеялся:
— Ну всем, так всем. Значит, пойдем одной дружиной.
— Да, Федор, именно. До сих пор ты был один, а теперь мы вместе. Здесь, к слову, немало хороших ребят. Право же, Федор, я нисколько не преувеличиваю.
Дядя Сережа достал из продуктового ящика банку килек в томате, нарезал хлеб, очистил луковицу, затем заварил крепкого чаю. Они не спеша ужинали. Завьялов то с грустными нотками в голосе, то с юмором рассказывал о своих мытарствах, о том, что предшествовало его выздоровлению и «возвращению в дружный строй». И о людях — больше всего о них. Теперь он стал замечать вокруг и по-настоящему ценить хороших людей и все то, что связано с проявлением доброжелательности, сердечности, бескорыстия, наконец, простого человеческого участия. Все это и раньше было вокруг него, но озлобленный, как ему казалось, несправедливостью, проявленной по отношению к нему, колючий и непримиримый, он старался все это не замечать.
— Вы бы знали, вы бы видели, как ко мне внимательно отнеслись, как буквально на руках носили в прямом смысле слова. — Федор задумался, отпил глоток чаю. — Вот я удивляюсь, как в сущности мало нужно, чтобы мы одних людей полюбили, а других возненавидели. А ведь считается, что надо чуть ли не пуд соли съесть вместе. — Дальский и дядя Сережа быстро понимающе переглянулись. А Федор продолжал:
— Казалось бы, ну что особенного — врачи меня лечили. А если разобраться по существу, то ведь я и человека убил, пусть подонка, но человека все же. А они меня на ноги ставили и как здорово ставили, скажу я вам, дорогие вы мои. Вот врач — хирург Галина Аркадьевна. Так она мне вот что ответила, когда я ей подобный вопрос задал: «Ты, — говорит, — Федор, для меня — просто больной человек. Я лечу тебя — твои раны, тяжелые раны. Это моя обязанность, мой долг перед обществом и перед тобой тоже. А ты уж сам решай, как будешь жить дальше, сумеешь ли в свою очередь дать что-нибудь людям. Поверь мне, подавляющее большинство из них этого стоят».
Пока Федор говорил, Евгений Петрович как-то странно вел себя. Он то вскакивал и ходил по комнате широкими и быстрыми шагами, то возвращался к столу и маленькими частыми глотками пил чай из большой алюминиевой кружки, то вновь садился рядом с Федором и не сводил с него глаз.
— А теперь, Федор, я скажу тебе самое главное. Вернее, даже не скажу, а покажу, — он протянул Федору письмо. — Ты прочтешь и сам все поймешь… — Дальский почему-то глубоко вздохнул.
Федор с тревожным чувством вынул из конверта тетрадный листок, исписанный мелким, но четким разборчивым почерком. «Дорогой сынок, — начал он читать вслух. Но постепенно голос его затухал. — Пишу тебе из больницы, в которой нахожусь уже скоро семь лет. И что я впервые за эти годы смогла тебе написать, говорит само за себя. Наконец-то мой недуг отступил, и я увидела мир. Именно увидела, так как до сих пор я просто ничего не могла осмыслить. Врачи долго боролись за меня и долго берегли меня от известия о том, что случилось с тобой, с моим дорогим, единственным, с моим голубоглазеньким Федюшей. Сейчас я уже все знаю. Невозможно передать, сынок, как я переживала, сколько ночей провела с мыслями только о тебе. Но болезнь не вернулась. Завтра меня выписывают, и скоро мы увидимся. Обнимаю тебя, мой дорогой. Твоя несчастная мама».
Читать дальше