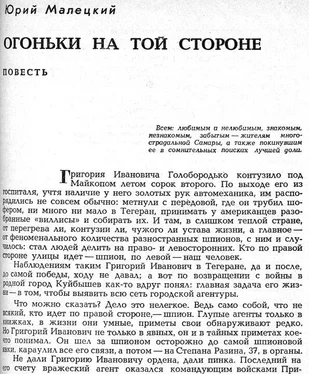А Надежда Петровна немедленно открывает рот и еще громче полковника распинает полковника за брань в общественных местах. Говорит, в чинах, так уже разучился себя вести перед женщиной. Так я, говорит, научу, говорит. Номер части требует, нажимая на твердые «ч», как и следует здоровой, сильной женщине. И полковник танковых войск изумленно берет свой белужий бок и, крякнув, уходит, а Надя ласково говорит Григорию Ивановичу: «Вам чего, гражданин?», и «ч» у нее уже не такое твердое, и Шнобель наобум отвечает: «Триста грамм кильки балтийской, пожалуйста»; глаза он прячет от публичного позора, машинально замечая — Надежда вроде бы подмигивает. Но только на улице до него доходит: подмигивание ее содержало направление зрачка, а именно — указывало на служебный вход со двора, со стороны Ленинградской.
И правда, ждет его Надя между двумя рядами деревянных ящиков, и оба они молчат. Он молчит от тошноты горького позора и оттого, что очно еще труднее поверить: именно эта официальная женщина в белом, только что запросто смешавшая с грязью человека из высших чинов, она же самая — под одеждой голая, как ни странно, с теми подробностями всего, которые теоретически полагается, конечно, иметь всем женщинам без исключения, но… И притом в постели он чувствовал себя, что ли, выше ее, а ведь он гораздо ниже полковника, которого она!.. Надя же молчала, вероятно, стесняясь своих рук, по локоть выпачканных рыбой, замызганного халата и дурацкого колпака. Скорее же всего — ничего она не стеснялась и совсем недолго молчала, а это ему померещилось. Во всяком случае, начала разговор она, сказав: «А мы ведь с Вами, Григорий Иванович, забыли рассчитаться. Сколько я вам должна за работу?» Голобородько замотал головой таким художественным образом, что, если бы на шее и голове была нарезка, он бы голову с шеи обязательно свинтил. А она: «Это не разговор. Но мне некогда. Приходите завтра в восемь, договоримся».
Дорогой к дому Шнобель думал: кильку, ну вот зачем он кильку-то купил, и что с ее пряным посолом делать язвенному больному? Если, скажем, соседей угощать тремястами граммами кильки, подумают — точно, псих. Кошкам-собакам скармливать такой деликатес — людей не уважать. И он твердо решил: пусть лежит, может, гость какой-никакой зайдет, хоть и забыли все дорогу к нему. И положил кильку за окно, в универсальный свой шкафо-холодильник.
А назавтра он пришел к ней в восемь часов, и они договорились.
К подругам своим в дома Надежда его не водила. Задумайся Шнобель над этим фактом, еще бы больше его потянуло удивиться: что она в нем нашла, если одновременно сама его стесняется? Но кому охота себе голову морочить во время жизни полной жизнью?
Ну так. Это была жизнь! Дважды в неделю. И в полном соответствии с тем, как Надя о себе понимала, то ли где прочитав, то ли в кино не нашем увидев-услышав: «Я — дитя улиц!» — протекала эта жизнь в основном на улице. Существование Григория Ивановича резко сгустилось, сместившись к центру. Жил он и всегда в старом городе, где летом сухо несло трухлявым деревом одно-двухэтажных домов, где летом пылило сильно, а осенью и весной стояла деревенская грязь, а уж зимой все цепенело от резко континентального трескучего климата. Где весной во дворах хлопотали чумазые глупые куры и хозяйски бродил среди них, роясь в обрывках газет, белый красавец петух, осенью же тонко кричал зарезываемый боров. А меж курами и свиньями бродили люди, одетые летом в ситец, зимой в черный драп. И редко когда мог идущий по улице, потянув носом, понять, чем занимаются люди во дворах за заборами; редко, потому что все ароматы, и даже самые сильные и стойкие: стирки и щей из кислой капусты — властно заставлял умолкнуть возвышающийся надо всем крепчайший запах застарелого дерьма, идущий из гнилодощатых уборных, служащих одновременно помойками.
Но стоило не расширить, а сузить горизонты, и вот совсем рядом оказывалась иная жизнь. Центральная жизнь. Шнобель часто здесь бывал, по делам, а иногда в кино, но чтобы в самом центре жить, как дома, — этого он никогда не думал. А можно. Этой жизни хватало всего на две улицы, Ленинградскую и Куйбышевскую, и одну площадь, имени Куйбышева, и один парк, но тот уже имени Горького; но столь густа была эта центральная жизнь, что казалось — ее много. Тут был и универмаг, и три кинотеатра, и рестораны «Жигули» и «Центральный», и телеграф, и телефоны, чтобы звонить хоть в Москву, и люди ходили в шевиоте и бостоне, и в крепдешине. Здесь пахло духами от женщин и сиропами от множества киосков «Газ-вода», и солнце не пыль рождало, но звон золотой.
Читать дальше