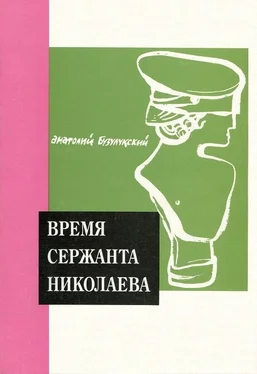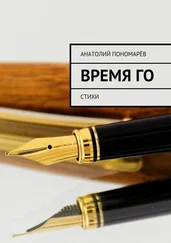— Мне сегодня до дембеля сто тридцать дней, — вспомнил о юбилее Николаев.
И другие стали прикидывать свое богатство, основанное на уменьшении. Они не скрывали издевательских усмешек над вековечными постройками, которым еще принимать муку не одного поколения “молодых”, считающих задом наперед, с конца: не сколько прослужили, а сколько осталось. Вешайтесь, зелень! Ваше время на приколе.
Воздух начинал цвести, как фиалка или экзема, сиреневый, с серебряными прутьями. Душа в замерзающем теле восхищалась выдержкой.
Николаев уже при входе в здание своей роты таинственно расхохотался. Он представил испуганно-заспанное, грузное лицо Туловища, лысоватый лоб с красной каемкой от фуражки, тесный, распираемый изнутри китель, длинную череду бесполезных функциональных отверстий на портупее. Сошлась она на дополнительной дырке, проткнутой у кончика ремня.
* * *
Матушка-казарма полыхала оранжевым светом. В полном разгаре была какофония подъема. Полуодетые взвода строились и вновь ложились, на бешеном ходу одеваясь и опять раздеваясь. Командиры отделений лениво прохаживались, матерились, произнося приказы и между делом прихорашиваясь. Николаева чуть не сбил поток 3-го взвода, которому бежать от своих кроватей до линии построения было дальше других, к оружейной комнате. Николаеву пришлось отбросить на решетку оружейки какого-то очумелого и сплошь потного курсанта. Тот застонал от боли в плече и не успел заправиться к команде “Равняйсь”. Опять побежали ложиться, давя друг друга, закусывая зубами ремни, стаскивая сапоги, теряя шапки, белея бельем и разными оттенками тел. Вскидывались на кровати и мучительно прислушивались к нарочито негромким командам сержантов. Большинство догадывалось о смысле командирского шепота по взметнувшейся кавалькаде однополчан. Раздраженно дышали. Успели за двадцать секунд. А вот одеяльцами не все прикрылись, а Чистилин? Выгоду ищете, так-перетак, козлы двурогие, двадцать пять — подъем!.. И опять свирепое, пахучее столпотворение: ремни в зубах, спутанные лямки, пятнадцать секунд прошло, портянки, сапоги, крючки, двадцать секунд, двадцать пять, кто еще сопли жуёт? Все, равняйсь, смирно! Кто там еще дрочит? Манжеты — к осмотру! О-о-о, да вы пуговицы не застегиваете, двадцать — отбой! Обратный бег. Легли. Успели. Все накрылись. Затаились. Обмундирование рассыпано, как книги и вещи в брошенном доме, городе. Хорошо. Тридцать — подъем! Вспорхнули с кроватей. Добежали до середины. Отставить! А кто за вас одеяла на спинки будет забрасывать, а? Вонь проветривать? “Отставить” значит “вернуться в исходное положение”... Левый сапог снять! Ага, Иванов, а где портянки? Где портянки, Иванов? Ай-ай-ай, Иванов! Взвод! Двадцать — отбой! Гад, Иванов, чмошник, страдай тут из-за тебя.
Николаев встретился глазами с утренней жестокостью младшего сержанта Федьки Лавриненко, своего “молодого” командира отделения, и сквозь гомон, морщась, пошел к своему взводу.
— Сорок — подъем! — недовольно сказал Николаев, подходя к подчиненным, методично и уже беззвучно прыгающим с кроватей на пол и обратно.
И Федька тонким криком повторил его гнев:
— Сорок — подъем!
Его взвод выстроился, благополучно заправился (все-таки сорок секунд!), радуясь сердобольному состоянию замкомвзвода. Взмыленные лица курсантов и обеспокоенно-услужливое Федьки Лавриненко были привычными и понятными до мелочей. Смотрели они на него, конечно, с благоговением, хитрые, подневольные, непечальные, живучие. С высоты своего срока службы он без вреда и даже с удовольствием позволял себе жалость. Но он видел, что они были беспечны и, едва обвыкнув в армейской среде, переставали томиться утратой свободы, находили друзей, опекунов, всевозможные лазейки, часовой механизм внутри себя. Часы отстукивали медленно, но безупречно. Одно время уменьшалось, другое приближалось. Вот почему таким самодовольным и даже мстительным становился иногда зрачок у какого-нибудь чересчур замлевшего зяблика, придурка, чушки.
— Заправиться! Равняйсь! — сказал Николаев по порядку. — Смирно!
Слава богу, думали курсанты, команды следовали последовательно и без вкраплений, что каким-то образом было связано с добрым расположением командирского духа.
— Значит так, — сказал тридцати напружинившимся профилям сержант Николаев. — Через... пять минут — (о, это было огромное время!) — взвод, опорожненный, с перемотанными портянками, форма одежды “номер четыре”, с завязанными шапками, стоит у входа по направлению к КПП. Вопросы есть?
Читать дальше