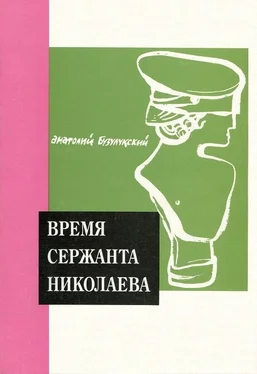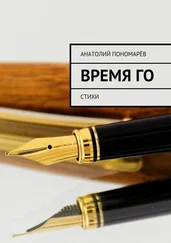Шайки, душевые, краны — все было свободно. Ни одного моющегося человека. В парилке гулял свежий пар, как представление о будущей невесте, не кислый и не сырой. Коля с Мурзиным легли на верхний длинный полок голова к голове. Не расплескивая удовольствия, изнуренно наблюдали за смягчением своих тел, за ростом влажности и покраснением кожи. Приятно было видеть себя нагишом, тщательно осматривать свою разогретую юношескую стройность, расслабленную и укрупнившуюся от тепла, потяжелевшую мужскую плоть, для сравнения поглядывать на приятеля, говорить вялым, немного гнусавым языком. Коля отметил свою мускулистую смуглость и умеренно длинные руки и ноги в сравнении с рыжеватостью и квадратными пропорциями Мурзина, вышколенного коренастого атланта с огромной, четкой, безволосой пульсирующей грудью, с бордовыми сухими угрями на лопатках и шее. В паху Мурзин был чистокровно рыж и как-то обидчиво съежен, скромен (что диссонировало с его остальным лепным фасадом), по крайней мере скромнее Николаева, мускусно-заросшего, непринужденного, приметного.
Сомнамбулическое количество раз они чередовали пощипывающую тесноту парилки с душевыми, тупой жар с лениво подчиняющейся водой; взвешивали свою мытую наготу на дармовых весах, радуясь тождеству роста и веса (победил Мурзин с показателем “170 на 70”, у Коли было легкое несоответствие — “182 на 76”), созерцали себя в огромном, до пола, зеркале, разваливались в простынях на дерматиновых лавках, опять плелись, выморочно чистые, шутливо обличающие жизнь, в ступенчатую обитель стерильного зноя. Мурзин, славящийся скрупулезностью в любом деле, хлестал Николаева двумя вениками столь добросовестно, столь неуемно, что приводил Колю в некоторое смущение. Отплатить тем же тщанием Коля не мог (не любил полосовать, не любил прикосновений), чего, впрочем, и не требовалось: Мурзин прекрасно обихоживал себя сам: блестел суровыми красноватыми белками и отгораживался от четырех сторон света бесконечными, частыми, беспощадными взмахами ободранных веников, вырывая из себя благодарные стоны.
Из бани на скучную морозную улицу они вышли с превосходством отшлифованного здоровья, ища глазами девушек и молодых женщин, убежденные в своей сильной и чистой красоте, по нелепости не востребованной в этой малолюдной дыре и в это неподходящее время. Насытившись блинами с мясным фаршем в пустынном кафе, Мурзин позвонил родителям в Новосибирск, а Николаев своим — в Куйбышев. Дорогая мама, сидевшая у телефона в далекой и любимой квартире как на посту, верещала без обычной слезы, переварив наконец-то три месяца оставшейся разлуки. Перечислила, что купила ему к возвращению, и два раза повторила, что на днях им звонила Оленька Беркутова. Сообщение приятно укололо не в сердце, а в самолюбие. Оленька Беркутова — “довоенная пассия”, по белесой, ломкой, смешливой миловидности которой он страдал, как романтический мошенник.
Он ярко вспомнил мутный вечер, когда ему не без попустительства с ее стороны удалось раздеть ее до белых, с красными зигзагами носочков, раздеть — и ретироваться, воспользовавшись шумом, поводом. Ее голая фигура предстала оглушительно извилистой, а кожа под его руками покрылась крупными и шершавыми мурашками. Мама доверительно сказала, что голосок Оли звучал грустно, что она интересовалась, когда он вернется. От прошлой любви осталась черствая, изъеденная тараканами корочка, трудно исчезающая усмешка.
Проигнорировав из обычной увольнительной программы кино, товарищи по оружию, одинаково размякшие, огорченные и примолкшие, в быстро нагнетаемых потемках поднимались по взгорку к панельному забору. В оставленных за спиной домах пылали лампочки, люди, вероятно, выпивали и наслаждались центральным или местным отоплением. На западе, в нескольких часах езды по железнодорожной ветке, размножался колоссальный город, Москва, битком набитый другими амбициями и речистой государственной деятельностью. Там имели квартиры и сутолоку славы товарищи Горбачев и Ельцин, там располагалось многоподъездное здание Министерства обороны. Дальше же, но в другой стороне был и Колин родной, попроще Москвы, город Самара, вдоль Волги. Он, как и всякое жилище, испускал особенный ландшафтный аромат, особенный, не московский, средневолжский говор, с простодушными заминками, дорожил полуистлевшими купеческими особняками, вечными заборами, крайне вертлявыми линиями, доминошниками, цыганами.
По приходе в казарму Коля лег лицом в подушку, отмахнувшись на правах старослужащего в кои веки от вечерней поверки; с этим и заснул в грустном счастливом волнении.
Читать дальше