Кажется, если снова вдруг вернется мода на «молодежную прозу» с ее раскованным стилем, то в числе первых снова будут они, и читатели будут говорить: «Какой способный молодой писатель, и с известной фамилией — наверное, внучок того!».
Потом придет мода на книги, написанные женщинами — и этого они не упустят — уж не знаю, что придумают, но что-то придумают!
Писатель вдруг разрывается на несколько частей... А ведь неизвестно, по какой части будут судить о нем окончательно — может быть, по самой худшей?
Авторов этих почему-то не пугает, что в будущем их могут посчитать за целую толпу однофамильцев совершенно разного класса и калибра («как хорошо писал дедушка и как плохо — внучок!»).
Что за непрерывное беспокойство, что за суета?
Недавно я прочитал в «Литературной газете» в статье Л. Латыниной «Газонные цветы»: «...Если историк литературы будет размышлять когда-нибудь о литературном процессе восьмидесятых годов, он обнаружит, что Искандер в нем вроде бы не участвует, хотя и работает продуктивно, и издается»... А может, и хорошо, что «не участвует»? Слишком уж часто непременное желание «участвовать», быть в «струе» на наших глазах приводило к потере индивидуальности, к суетливости, к неискренности. Вспомнит ли об этих «суетливых участниках» историк литературы вообще? Может, как раз-таки «неподвижного» Искандера и можно будет разглядеть среди их суеты?
Какую радость я испытываю именно от его отдельности!
Как изумляют меня писатели — особенно молодые! — которые вдесятером (и даже в большем количество) топчутся на одной и той же площадке и почему-то не думают о том, что всех их могут принять за одного!
Вот такой «групповой метод» действительно потрясает! Прикрой рукой фамилию, дочитай рассказ — фамилию так и не назовешь. Если это не пугает писателя — чем же тогда его можно напугать?
И дело все в том, что идут-то сейчас не от индивидуальности, а от темы. Причем заранее заданной уже оказываются не только тема, но и способы описания, и сам стиль. Естественно, что на такую «непыльную» работу тянет сразу столь многих!
У настоящего писателя — все свое. Групповой метод тут обречен на провал. Искандера узнаешь по двум словам и даже по одному. Не зря его «Джамхух — сын оленя» стоит в сборнике «Современная повесть» в конце. Сколько наслаждения получаешь, читая! Сколько счастья, веселого лукавства, независимых суждений и точных реалий жизни вместилось в эту как бы сказочную повесть!
Рассказы его выискиваешь, как жемчужные зерна. «Новый мир», 1986, №1 — рассказ «Табу». Опять эта пленительная, лукавая, ласковая интонация...
«...Первым мне об этом поведал дядя Сандро. Это был тот период моей жизни, когда он мне смертельно надоел. Господи, если бы кто-нибудь знал, как он мне время от времени надоедает!»
Словно глоток после долгой жажды — именно так я воспринимаю рассказы Искандера. Каким жизнелюбием заражаешься от его простодушных, веселых, упрямых персонажей!
Если он вдруг изменит почему-либо географию своих рассказов и напишет даже о «летающих тарелках» — все равно это будет рассказ Ф. Искандера, полный юмора, лукавства, абсолютной самостоятельности и независимости от того, что «принято говорить» по данному вопросу.
Личность писателя — вот что самое важное в литературе. Он будет «рисовать» кувшин на столе или стул у окна, душа твоя будет переполняться счастьем и гордостью за человечество.
Такой всегда узнаваемый, безупречно искренний писатель живет и у нас, в Ленинграде. Вот вышла в Лениздате книга «Сказки для умных» — и всем, кто достал эту книгу, предстоит радость общения с умным, широким, добрым человеком, прекрасным писателем с абсолютно индивидуальным, им самим изобретенным стилем. («А разве может быть в литературе как-то по-другому?» — хочется спросить.)
Как смешно после В. С. Шефнера читать серьезные сообщения о всяческих сенсациях — телепатии, пришельцах, небывалых открытиях. У Шефнера ко всему этому материалу отношение ласково-снисходительное. Обычный его герой, веселый бедолага, бывший детдомовец оказывается в миллион раз интересней любого «чуда». Веселые, глубокие, человечные повести Шефнера читать радостно и одновременно — грустно. Никакие чудеса не могут облегчить человеку решения главных вопросов его жизни, и не надо тут надеяться на какой-то «прогресс» в этом деле! — так бы я сформулировал одну из главных мыслей «фантастических» повестей Шефнера.
Сколько удобных «мифов» придумано — и о том, что сейчас время какой-то особо «насыщенной информации» и что сейчас время «больших скоростей»... Сколько уловок «ленивых духом», которых нынешнее «как бы особое» время освобождает от привычных человеческих обязанностей и даже — от души.
Читать дальше
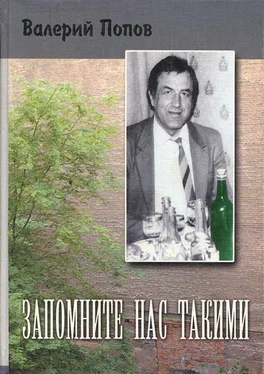

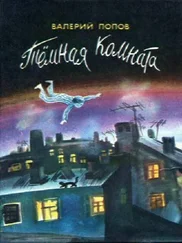
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
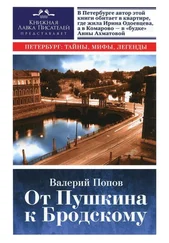
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
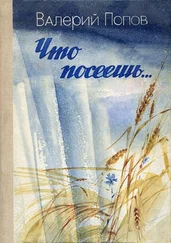
![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)
