И вот я в Америке. Общие наши друзья горестно сообщают подробности последнего его «виража». Да, здесь как-то сильней ощущаешь причины. Даже я, приехавший сюда невсерьез и ненадолго, чувствую, как Америка давит, словно тугой воротничок, не так открываются окна, не так идет вода из душа... Марина Ефимова, заменившая Довлатова на радио, лихорадочно печатает, поглядывая на часы... В России я ее не помню такой, но здесь не Россия.
В общем, ясно, что Сережа не выдержал. Но еще яснее то, что он сделал. Приехав сюда талантливым разгильдяем, стал серьезным и — что главное — состоявшимся писателем. Вдруг представил его двойника — оставшегося и до сих пор жалующегося по пивным на козни обкома. Но он — состоялся, хотя местные антикоммунистические «обкомы» тоже душили, как могли, но он доказал умной Америке, а заодно, кстати, грустной России, что и по-русски можно писать бодро и занимательно. Вспомним его знаменитое: «Был дважды женат, и оба раза удачно». Именно при нем — и при его друзьях — «Свобода» заговорила, наконец, человеческим языком — а не перелицованным из советского протокола языком антисоветчины. Вся вольная, озорная, цинично-сентиментальная русская Америка заимела, наконец, своего писателя — и как они любили его! Говорят, последние годы официанты на Брайтоне не подавали ему счетов: «С русских писателей денег не берем!» Его души, разместившейся в его гигантской фигуре, хватало на то, чтобы любить тех, кого мы презираем, — поэтому и его любит больше народу, чем нас. Это, отчасти, и погубило его, но дай нам Бог всем такой гибели — на фоне всеобщей любви!
В последнюю ночь он оказался не дома, начал задыхаться, умирать. Сперва звонили каким-то модным русским знахаркам, лечащим по телефону, теряли время — и тут он кому-то добродушно не мог отказать. Помню, еще в молодости его били хулиганы, едва достающие ему до пупа... но именно таким мы и любили его. Потом — «скорая» и последний привет от правильной Америки, которая на этой правильности и стоит: «Икскьюз ми! Без страховки не принимаем!» — «Но он же умирает!» — «Сорри!» У другого, конечно же, оказалась бы в кармане страховка, и он спасся бы — но то был бы другой какой-то человек, не Сережа, которого мы любим за то, что с ним случались смешные нелепости, как и с нами, и последняя — не очень смешная...
Какой-нибудь лохматый его знакомец, почесывая пивной живот, скажет с внутренним удовлетворением: «Эх, не выдержал Серега! Сломался!» Смерть Сергея в загуле как бы делает их равными, и этот теперь даже «равнее», потому что — живой. Нет, не равные вы!
Вспомнил вдруг еще одну нашу встречу... Я перехожу Инженерную, навстречу идут два красавца: изящный — Толя Найман и огромный — Сережа Довлатов. Лето, тепло... Левой мощной рукой Сергей грациозно-небрежно катит креслице с младенцем (с детьми Довлатова всегда была некоторая путаница — во всяком случае, для меня).
— Привет!
— Привет! Ты куда?
— В Летний сад.
— А я — на Зимний стадион.
Улыбаясь, расходимся. И даже язвительный Толя Найман усмехается. Быстро, на ходу, поиграли словами.
И вот уже сейчас прохожу по Кузнечному и слышу, как один книжный жучок говорит другому:
— Слыхал? У Сереги новая книжка вышла. Я с завистью вздрагиваю... «У Сереги!» Какая любовь!.. Фамилию уточнять не надо — все прекрасно уже знают, о ком речь.
Тающие льдины
( Литературная ситуация 90-х )
Что ни говори, а доперестроечная литература славилась своей монолитностью. Автор, сочиняя книгу, должен был одновременно думать и об идейной зрелости, философичности, и о занимательности тоже, вставляя местами «клубничку», местами юмор. Автор понимал — грош цена его идейности и философичности, если книга его останется непрочитанной. И лучшие перестроечные книги следовали этой традиций. Взять, скажем, «Дети Арбата» или «Белые одежды» — в них крепко сплетены идейность (уже новая идейность) с занимательной, почти детективной интригой. Потому эти книги прочитали все, и дело перестройки поселилось в душах широких масс.
Дальнейшее развитие свободы привело к распаду прежней литературной техники. Все части тела прежней литературной конструкции, подобно прежним союзным республикам, оторвались от прежнего монолита и стали вести свободное, отдельное существование. Вместо прежнего идейного руководства восторжествовал принцип рынка: качество определяется товарной ценой, остается лишь то, что хорошо продается. Идея занимательности, освободившись от вериг идейности, казалась невероятно заманчивой: наконец-то писатели будут писать то, что им хочется, а читатели, что им хочется, читать. Возникло множество процветающих издательств этого направления, и как из-под земли появились сотни новых писателей, правда, очень похожих друг на друга и с какими-то незапоминающимися фамилиями. Писательское «имя» уже не играло роли на этой ярмарке — именитые будут гнуть свое, уж лучше простые ребята, без выпендрежа, которые быстро пишут то, что «хавают». Эта новая литература разрослась удивительно быстро, и вот уже все магазины заполнены их глянцевой продукцией, с обложками столь же стандартными, как и содержание этих книг.
Читать дальше
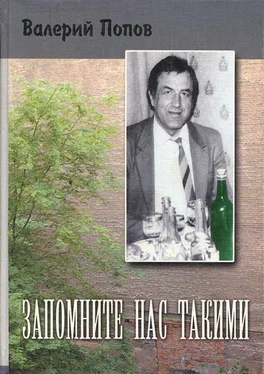

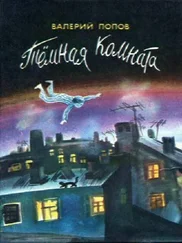
![Валерий Попов - Мой Невский [Прогулка по главному проспекту] [litres]](/books/398128/valerij-popov-moj-nevskij-progulka-po-glavnomu-pr-thumb.webp)
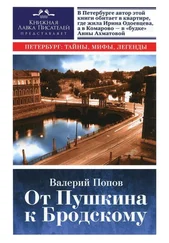
![Валерий Попов - Плясать до смерти [Роман, повесть]](/books/414370/valerij-popov-plyasat-do-smerti-roman-povest-thumb.webp)
![Валерий Попов - Избранные [Повести и рассказы]](/books/414376/valerij-popov-izbrannye-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)
![Валерий Попов - Любовь тигра [Повести и рассказы]](/books/414384/valerij-popov-lyubov-tigra-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)

![Валерий Попов - Южнее, чем прежде [Повести, рассказы]](/books/414392/valerij-popov-yuzhnee-chem-prezhde-povesti-rasskazy-thumb.webp)
