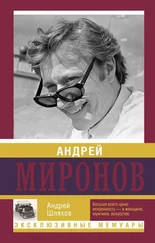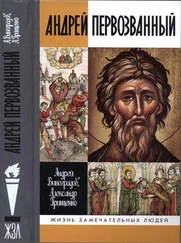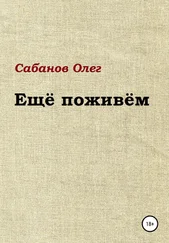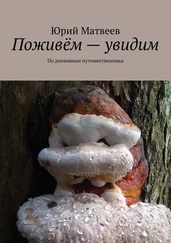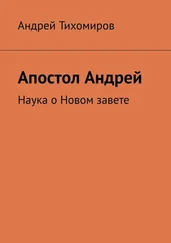Вот тут-то и скрутило Горева. Вот тут-то и сообразил он про себя: «Полное ничтожество. А страдания? Так их ещё заслужить надо, и крест — тоже… На Голгофу-то тяжело всходить, да и где она, моя Голгофа? Страсти, томление духа и суета сует. Страсти — не страдания, блеф, муляж… Провидение, оно достойного ищет, щедрого, стойкого, вот так… Водочка, музычка, бабьё… Это ли свобода? Если — это? Кто тогда я? Хамское отродье… Ладно, это так, клише… Но, всё-таки, а где же я сам?».
И протянулись по его душе, как по лужице на асфальте, ледяные иглы. Зима тревоги нашей… Он брёл по тёмным переулкам, и за ним брела музыка. Её грустный мотив не давал душе успокоиться, он тревожил и дразнил душу, заставляя его, Горева, выворачивать наизнанку все свои никудышные думы, теряя стойкость и ясность сознания… А потом пришло прозрение — простое, как мычание… Человек, лишённый любви, не той — среди поз и подушек, совсем-совсем другой, Божественной любви, очищающей душу, явленной ему в страдании, лишён Благодати. И пусто тогда в его сердце, черно и пусто, как на этих улицах — зима, ветер, мрак…
Он пересёк площадь. Машины, фонари, девочки у гастронома жмутся, клиенты, сутенёры… Забрался на какую-то стройплощадку, вымазался там весь, очнулся, побежал назад…
Опять девочки, фонари, машины… Ан, нет, шалишь! Церквушка за берёзками притаилась, туда и пополз… Храм, свет, люди… Авось, примут… Среди нищенской черноты берёз, враждебной беспредельности города, мстительных улыбок крутобёдрых шалав, среди тьмы и света, разрывающих на части его бедную жизнь, он прошёл вглубь, и темничные стражи города отпустили душу. Вот они — лики… Николай Чудотворец…
Маленькая старушка, как воробушек, ворожила что-то у свечек, видимо, отмаливая чью-то заблудшую душу… Горев встал рядом, сгорбился, как умел… Пронзительный свет заблудшей души (он звучал в этом сумраке) — и казалось, будто бы невидимые пальцы, словно подчиняясь ритму, давили изнутри на глазные яблоки, и глаза внезапно отяжелели, налились влагой, слёзы, слёзы хлынули сами — сами, такова была милость… Так было нужно. А Горев долго мялся, твердил вначале своё, медленно вникая в это сияние, но потом и его поглотила музыка… И, уже не чувствуя под собой ног, Горев встал на колени.
Мы глядели на морду зверя — на наших глазах она превращалась в человеческое лицо…
Р. Киплинг
Детство моё, сгорбясь, подле меня.
Д. Джойс
Мне — двенадцать. Я приготовил уроки и, отыскав любимую книжку, кажется, это «Возвращающий надежду» — сижу, читаю… Я один в комнате, мать с отцом — на кухне. Отец смертельно болен, у него рак. Он жутко похудел за этот год, ничего не осталось, ему колют наркотики, и свирепая боль отступает. Но от наркоты он совсем сбрендил. Бредит, чудит, смуряет… 0ни там, на кухне, обедают, что ли. Тихо у них пока. А я читаю. Замечательная моя книга.
Но, что это? Дикий крик, крик о помощи, словно режут кого, вопли, вызывающий звон разбитой посуды. Вдребезги! Началось…
Краткий миг, и всё, весь мир потух, будто повернули выключатель. И книжка выползает из рук. Я вскакиваю с дивана. Дальше — ни шагу. А там — шум, борьба… Я слышу, как кричит мама: «Где ты, сынок? Помоги мне! Иди сюда!». Она безумно боится отца. Отчаяние, скользкая его грань. Я не могу. Дверь, проклятая дверь… Я задыхаюсь, я дрожу. Это я-то, Одиго! Возвращающий надежду! Но у меня нет шпаги. Не могу я… Где он, мой замок, чьи стены увиты плющом и обласканы бранной славой? Дым, мираж…
И снова кричит мама. Зловещая возня, треск. Понимаю, отец сломал стул. Пронзительный визг мамы, визг ужаса, визг испуганного до смерти животного. Я замер, жалкий уродец, затаив дыхание. Бешеный рык (рык!) — отца: «Видишь, какой я сильный?! Не умру. Не надейся. Никто тебе не поможет! Раздавлю, гадина!».
Я плачу взахлёб — где моя шпага? Мне не открыть эту дверь. Стена… Стул разлетается на куски… «Иди сюда, сынок!» — мольба, будто струна лопнула, но уже тише, глуше… И опять отец хрипит, как удавленник: «Слабак он, твой выродок!». В ответ — молчание. Я — мямля, рохля, так говорил отец… Слоник. Нет, я — Одиго, вольный ветер, но что я могу, когда по квартире шныряет её величество Смерть. Наш дом — её зловонное логово. А я… Где я? Жалкий трепет. Стыд. Залитая слезами страница. Разгром.
Мне никогда не выйти из этой комнаты.
Их не слышно. Ни звука. Лишь вяло бубнит радио, да укоризненно талдычат часы. Всё.
У меня хорошая память. Это всё, что у меня есть. Злая тоска воспоминаний. Боль, слёзы, удушье. Чудовищное чувство вины, груз, тяжкий груз — моё детство. Униженный, уничтоженный. Ватерлоо. Мне не избавиться от наваждения. От того, что было там, на кухне, от того, что окружает теперь. Теперь я изгой, как Одиго. Так легче. И я отрекаюсь, отрекаюсь от тебя, мой жалкий, последний приют…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу