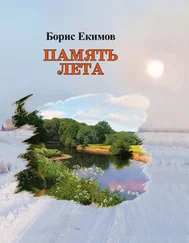Тимоша заснул крепко, спокойно, надолго. Его случайно увидел отец. Заметив не в срок и не у места спящего сына, он удивился, подошел ближе.
Тимоша спал, свободно раскинувшись на желтой соломенной подстилке. В изголовье — брезентовая солдатская сумка. Рядом — икона, на которую Иван поначалу внимания не обратил. Он глядел на сына, внезапно поняв, как быстро подрос Тимоша. Все был малыш да малыш. А вот он — большерукий, крепкий. Мужичок…
Но лицо мальчика, заветренное, загорелое, оставалось по-детски нежным. Во сне ему виделось что-то счастливое, радостное. Он словно не спал, а жил в светлом забвении, порой улыбаясь и что-то шепча.
Рядом лежала икона. Матерь Божия и Младенец ее, казалось, охраняли сны мальчика.
Но Тимоша что-то почуял, а может быть, просто выспался. Он открыл глаза и, увидев отца, спросил его:
— Это что, уже утро?
Иван рассмеялся. Тимоша быстро поднялся, взял сумку и потянулся к иконе, чтобы спрятать ее. Но отец стоял рядом и, конечно, увидел:
— А это откуда?
Что-то сходу придумать Тимоше не удалось. Он растерялся. Пришлось говорить правду.
Услышав короткий сбивчивый рассказ, Иван вначале не поверил, потом удивился и снова не поверил, не хотел верить, молчал. Тимоша начал новый рассказ, длинный:
— Там очень интересно… Мы с тобой вместе пойдем. Мы все разведаем, а потом всем расскажем. Там нужен большой фонарь, — убеждал он отца. — Это Зухра испугалась. А я не боялся. Там — вода, там — комнаты. Там — церковь … Там еще много всего…
Иваннаконец поверил, и ему стало страшно. Вспомнились хуторских стариков рассказы о подземном монастыре, тайных его ходах, ведущих до самого Дона, о пещерах и о пропавших в разное время людях, от любопытной детворы до взрослых. Иван поверил и почуял озноб, словно сам побывал в этом подземелье. Ругать сына было теперь бесполезно, а вот уберечь … Потому что Тимоша говорил и говорил восторженно:
— Мы пойдем и все разузнаем… Я даже один не боюсь.
— Поехали, — прервал сына Иван.
— Прямо сейчас! — обрадовался Тимоша. — Надо фонарь взять!
— Поехали. Покажешь.
Сыну поверив, Иван решил убедиться и увидеть своими глазами: что, где и как.
Ничего не объясняя, посадили в машину деда Атамана. Напрямую к Явленому кургану путь был недолгим. А осмотр коротким: в самом деле — обвал края балки, внизу — темный ход с деревянной обшивкой.
Дед Атаман, ногами слабый, вниз не спускался. Но определил разом:
— Был выход, потайной, в Карагичеву балку. Она к Дону идет. Таких ходов раньше много было. Я еще пацаномбыл, после войны, — рассказывал он. — Находили, проваливались, бывало…
Басакины, отец и сын, к самому ходу спустились. Иван оглядел деревянными плахами укрепленный, даже на взгляд обветшавший ход.
Тимоша рвался вперед:
— Пошли. Пойдем, ты увидишь.
— Стой на месте! — приказал Иван.
Сверху остерегал их дед Атаман:
— Не удумай ходить. Вылазьте. Тут новый будет обвал. Лопины. Здоровучие… Вылазьте оттель, пока целые.
С тем и уехали, Тимоше накрепко приказав: «Не вздумай туда лезть … Рухнет, и останешься».
А взрослые меж собой решили известить ближних: монаха Алексея да старца Савву, а еще станичного батюшку и, по возможности, отца Василия. И уж потом всем вместе решать.
Тимоше приказ строго-настрого: «Не вздумай…» И теперь, когда увидели, убедились, пришло время родительских переживаний: «Господи … Да как же они… Да вдруг…» Добавляя тревог, дед Атаман из своей долгой памяти выкладывал всякие случаи, один страшнее другого. Как ушли … Да как пропали. Один мальчишка седым вышел. Подураев его фамилия. Так он испугался. Стал глупым. После таких рассказов Ольга даже таблетки пила. Ведь в самом деле могло случиться … Рухнуло, и никто бы не знал. С ума можно сойти. Тимошу она не ругала, но, словно квочка, не отпускала от себя весь вечер. И спать уложила с собой, объяснив: «Иначе я всю ночь буду полохаться…»
Разглядывали икону.
— Староверская, наша… — определил дед Атаман. — Бывалоча у всех … Аныне последнее покрали. Богатая икона.
Старик на хутор к себе не поехал, решив дождаться дня завтрашнего, начала сенокоса. К тому же он чувствовал себя нездоровым: ломило, просто выворачивало суставы в плечах, локтях и коленях. Не ко времени чуялась ему непогода.
Первому дню после Троицы, по-старому — Духову дню, положено быть с грозою и теплым коротким дождиком, который окропит землю, травы перед косьбой, чтобы пуд сена был словно пуд меда. Это старинная примета.
Читать дальше
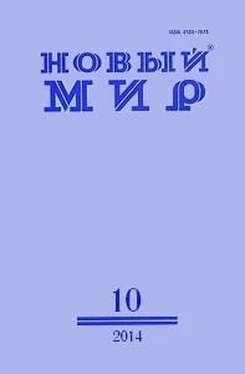

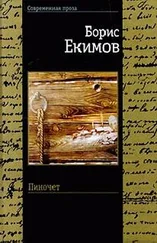

![Борис Екимов - Житейские истории [сборник]](/books/413591/boris-ekimov-zhitejskie-istorii-sbornik-thumb.webp)