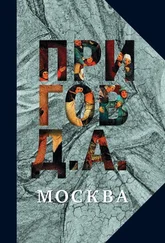Но мы не поэты. Вернее, поэты, но не в поэтическом смысле. А в поведенческом. То есть мы можем и забежать за себя, за начало себя в этой функции. И, что важно, без видимых потерь (так как все это происходит не в телесной, а в модной ныне виртуальной, вернее, виртуальном модусе) перенестись в постлокус, и даже связать, слить их воедино в некий мерцающий квазиобъект-локус-модус. Мы попытаемся развести эти функции человеческо-поэтического организма как во времени, так и в их онтологической незамутненности, если позволительно так выразиться. Что, непозволительно? Почему? Позволительно! Вот и хорошо. Мы берем свое стихотворение и, не отказываясь, не отказывая себе в авторстве, проделываем постнатальный анализ. При этом мы не боимся подозрений и укоров в рациональной предположенности всего после напридуманного всему, прежде написанному. Во-первых, мы этого действительно не боимся. То есть не боимся ничего этого рода, хотя во всем остальном мы, то есть я, страсть как пуглив. Мама рассказывала мне, что в детстве я безумно боялся, например, кошек и как-то раз просидел весь день дома, не выйдя на какую-то очень меня интересовавшую встречу или игру, так как на лестничной площадке лежала невинная серая кошка и миновать ее не было никаких возможностей и путей, разве что выпрыгнуть с нашего седьмого этажа. Но на это я тоже по причине той же пугливости не решился.
Не боимся же мы вышеназванных укоров, во-вторых, потому, что это было бы невероятным искусством, виртуозностью упакования всех вчитанных впоследствии смыслов в 28 слов 9 строк нижеприводимого стихотворения. Но дабы окончить спор и противостояние неким фантомным оппонентам (вочеловечивание которых, впрочем, вполне реально и доказуемо), имеющих поэтов за некий стихопроизводящий скот, наподобие коров и прочих молокопроизводителей, заметим, что действительно писал я стихотворение, не ведая всех вышепомянутых забот. То есть как всегда. Как всегда я это делаю — необременительно ни для себя, ни для посторонних. С огромной долей необязательности, но и рутинности в пределах своей дневной нормы писания 3–4 стихотворений. Написав же, окинув его читательским оком, почему-то пробежал затем и оком аналитическим, что бывает со мной очень редко. Будучи охотником до всякого рода глобальных и абстрактных рассуждений и спекуляций, к текстам как раз, своим и чужим, я весьма невнимателен, выпытывая из них только некие общие посылы и идеи. Но тут вот такая незадача. Однако же, неожиданно для себя, я достаточно увлекся этим занятием, так что даже решил запечатлеть его на бумаге. Все же предыдущие извивы стиля и письма суть просто оправдание перед собой (да, по случаю, и перед другими) за столь непривычное для меня, как бы даже в некотором роде постыдное занятие.
Так вот это нехитрое стихотворение и эти нехитрые результаты его прочтения:
v| o4029 Мы разговариваем тихо
Над чистым спрятанным прудом
Ты говоришь: Я карасиху
Вчера видала и притом
С мужским огромным карасем! —
Я отвечаю: Харасё!
Харасё! —
Мы — японцы
Рядом Фудзи
Все понятно? Конечно, все. Стишок-то небольшой. Господи, по сравнению с прочими поэзами — так просто крохотулечка! Сравнить если с могучими неостановимыми поэтическими потоками строк в 200–300. Да ладно, мы не о том. Вот вам пустячок, казалось бы. Да и в самом деле пустячок. Но вся мощь человеческой культуры, если, конечно, внимательно и по-доброму приглядеться, как зверь набрасывается на него, съедает и переваривает. Вернее, не так. Вернее, не имея возможности уцепиться за него зубами по причине невинной малости его (что оно — былинка! чепушинка! 28 слов в 9 строчечках!), только опутывает его, обвязывает своей слюной, свивая, обращая в достаточно большой пульсирующий кокон. Мы берем его, липкого, дышащего, в наши брезгливые руки и уже можем в нем кое-что разглядеть.
Что же мы рассматриваем там? Начнем по порядку, с, как бы это выразиться, менее эмоционального. Более внятного, подверженного простому перечислению, упоминанию.
Начинается русский стишок. Ну, хороший или плохой — не наше дело. Ну, некий пейзажик. Видимо, где-то в средней России. В провинции. Можно было бы точнее идентифицировать как XIX век, если бы архаизированная практика и культура русского стихосложения не размыла бы и всякие четкие исторические рамки и даже не стилизовала, а просто бы не различала подобных мелочей, живя как бы в вечности традиции русского стиха и сложения XIX — начала ХХ века. Ну, да ладно. Скажем, небольшая усадебка, судя по всему. Тихо, спокойно. Может быть, вечереет. Но небо ясно. Ничего, кроме тихости, не предвещающей никаких странностей, экстраординарностей, если, скажем, прочесть первые три строки. Скажем, кто-то из ближайшего дома зовет: Вероника, иди чай пить! Или же: Костя, ну где же ты! Мы опаздываем! Вот и нет. Так и остались бы три нехитрые строки на фоне глядящих в них, вчитывающихся и вчитывающих огромных поблескивающих глаз русского стиха
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу