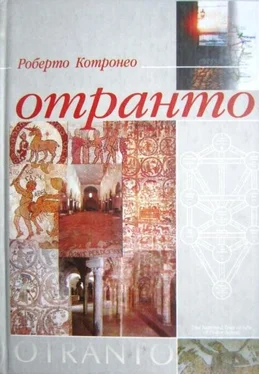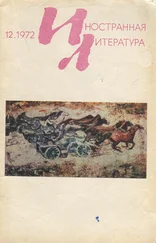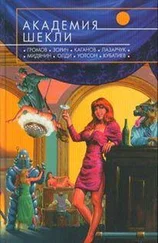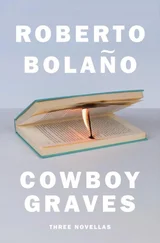Последнюю фразу он произнес угодливо, и у меня снова возникло чувство, что он ведет со мной игру, понимая, что в этой игре мы с ним партнеры, и в данный момент я ему подыгрываю: «Велли, мозаика включала много человеческих изображений, и у всех глаза были, как у той женщины, которая смотрела на меня и не видела, ослепленная изумлением, что умирает вот так, без крика, без страха, мгновенно, словно по ошибке судьбы. Я увидел грязную, запыленную мозаику. На полу лежало много наших, и они почти закрывали его телами. Кроме того собор был полон всякой живности, по настеленной на полу соломе бродили кони, куры… Многие из наших спали сном праведников: ведь они славно послужили своему Богу и побили неверных. В соборе стояла тьма, света факелов не хватало, чтобы осветить нефы. Я медленно добрел до абсиды, пристально вглядываясь в те уголки, где было хоть немного света, словно отыскивая врагов и не веря, что все кончено, и результат нашего большого похода налицо: кучка молящихся пленников да тела, сваленные в кучу не берегу или оставленные у стен домов истекать кровью и глядеть перед собой невидящими глазами. Многие из наших были ранены и стонали. Мне говорили, что местного епископа живьем разрубили пополам на глазах у всех, и с ним пришлось немало повозиться, ибо он брыкался и кричал. Может, так оно и было: не знаю, не видел. Зато видел, как на костре, сложенном из обломков деревянного креста кафедрального собора, варили еду. Я искал, с кем поговорить. Мне было страшно, и я никому не мог довериться. Мне все казалось, что на меня кто-то пристально смотрит, вернее, кто-то пристально смотрел на меня, пока слабело женское тело, словно становясь со смертью легче и меньше. Я не осмеливался обернуться на того, кто неподвижно стоял у меня за спиной, готовый подставиться под мой клинок и умереть. Уже вечерело, крики постепенно замолкали, кровь запекалась и приобретала нефтяной оттенок. Я двинулся по улицам в поисках этого взгляда, полного либо страха, либо глубокой ненависти. Кто бы ни был человек, стоявший тогда за моей спиной, он не стал бы спасаться от моего клинка. Казалось, он исчез — то ли был убит, то ли находился среди пленных. Так оно и оказалось: я поймал на себе ненавидящий взгляд одного из самых юных пленников, предназначенных на вывоз в Валлону. Я просил, чтобы его отдали мне, но меня не послушали: его участь была уже решена, и после галеры он должен был стать рабом. Мне очень хотелось его прикончить, чтобы больше не судили меня эти глаза, но я ничего не мог сделать. Надо было обернуться сразу, и тем же клинком снести ему голову. А теперь было поздно. Ахмед-паша уже распорядился судьбой пленников: одни должны были отправиться в рабство, другие — сложить головы на камень, дабы быть обезглавлены единым ударом. Не могу сказать, что ждало этого юношу. Да и конец той ночи я помню смутно: кто-то играл нашу музыку, я каким-то образом выбрался из города, хотя это и было чистым безрассудством, а потом я кого-то ограбил и убил. Ограбил я спящего человека, а когда он проснулся, я изранил ему лицо клинком. Я устал убивать, но должен же я был что-то сделать, чтобы он на меня не смотрел! Я убежал в поля и бродил там без цели, не зная, где я нахожусь, и сильно рискуя, потому что меня самого могли в любой момент убить. Но я был везучим». Откуда взял Ахмед эту историю? Священник кафедрального собора даже слушать ее не пожелал, обвинив меня в кощунственных фантазиях. Он остановил меня криком, призывая вспомнить, как выглядит Сатана на мозаике. Знал ли он Ахмеда? Догадывался ли, с кем я говорила? Я хотела правды об этом человеке, но никто не мог мне помочь. Кто он? Сумасшедший, фантом, нечистая сила? А может, это я сошла с ума и беседую с собственной тенью на крошечной церковной площади, где все меня могут услышать? Кто даст мне ответ? Почему никто не избавит меня от этого Ахмеда? Белокурый доктор явно смущен: «Ахмед? Ты что, не понимаешь, что это за имя? Неужели ты всерьез полагаешь, что кто-то здесь может его носить? В Отранто всего 3 000 жителей. Не может быть, чтобы его никто не знал и не мог сказать, кто он». Короче говоря, все считали естественным, что какой-то человек, сидя со мной рядом на ступеньках церкви Сан-Пьетро, выстроенной по греческому образцу и гораздо более древней, чем кафедральный собор, рассказывал мне о резне в Отранто, в которой он, якобы, сам принимал участие. И было в порядке вещей, что за это время никто не прошел мимо, ни в одном окне не мелькнуло ни силуэта, и даже церковный сторож не вышел на закате, как обычно, запереть храм на засов. Так я и сказала доктору. Ничего, совсем ничего не было слышно, только волны бились о скалы, словно желая смыть Отранто. Чтобы взять город, турки трудились 14 дней: «Мы приплыли 28 июля, но город пал только 11 августа. Понимаешь, так было предначертано, так должно было случиться. Для всех это был праздник, а для меня — предзнаменование. Я знал, что останусь здесь навсегда. Она взглянула на меня, и теперь я был обречен вечно переживать эту сцену: как я вхожу на площадь, кричу, вижу тень, и мой клинок в ослеплении подводит меня, движимый одновременно и страхом, и инерцией убийства. Я вскидываю руку и с силой ее опускаю. И только в тот момент, когда чувствую струю крови на подбородке, понимаю что такое эти глаза. Белли, мы так тебя ждали, чтобы все, наконец, обрело покой и вернулось на круги своя».
Читать дальше