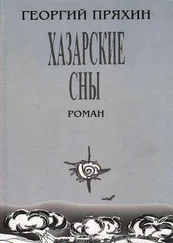Но что бы Ольга ни делала, кому бы и что ни объясняла, а всегда чувствует на себе внимательный взгляд сына. На уроках с ним Ольга не разговаривает. Он сидит в среднем ряду («ряд» — один человек, вернее, один человечек и еще две пустые парты). И куда бы ни двигалась, ни перемещалась, ни неслась Ольга по комнате — ко второму классу или к третьему, — а сын всегда оказывается на ее пути. В центре. И всякий раз она на мгновение задержится, присядет, смежив крылья, погладит, потреплет его по голове и — летит дальше. Говорят, птицы, когда летят через моря, обязательно отыщут заветный островок и — спустятся. Передохнуть.
Так и Ольга — спускается.
Но говорить она с ним не говорит. Тем ласковее ее интонации, когда говорит в классе с другими. Объясняет, спрашивает. Потому что ей кажется, будто она говорит и для него. И с ним говорит, разговаривая с чужими детьми.
С нею вообще чудные вещи происходят после замужества. Чтобы она ни делала, ей все время кажется, что она на виду у мужа и сына. На все, что ее окружает, смотрит своей любовью к ним. Мужа любит без памяти. Врубилась. Летом дни длинные, так, если муж работает в поле, Ольга за день обязательно к нему смотается. Да еще и не один раз. «Тормозок» соберет, сына подхватит и через луг прямо на шум трактора. Мужнин тракторишко, что день-деньской стрекочет, невидимый, где-то по периметру здешних полей, Ольга узнает, как запечного сверчка. По голосу. И будь она в школе, будь она в доме, во дворе ли, в огороде, — везде этот голос слышит. Различает тонкое его, невнятное токование. Что б ни делала, что б ни говорила, кого б ни слушала, держит в сознании эту незримо прядущуюся нить.
Поет сверчок — и спокойно, сладостно ей.
Поет и все вокруг — до того самого, сливающегося с горизонтом периметра — ее, Ольгин, дом. Где она и наложница, и раба, и хозяйка. Этот невнятный стрекот и очерчивает круг ее дома.
Когда явилась к нему в поле первый раз, муж удивился:
— Ты чего это?
— Соскучилась, — ответила она.
Взяла его ладонь, твердую, горячую, просунула к себе за пазуху. Благо лифчиков тогда не носила, да они и сейчас ей без особой надобности: сына выкормила, выпоила, а грудь так и не израсходовалась, не обмякла, не обвалялась в замужестве, напротив — подошла, подперла, как на дрожжах, еще выше. Он понял ее по-своему, лежали они в лощинке на обочине маленького, как ячейка в сотах, поля, одни-одни — и перед небом и перед землей. Вся осень та была на редкость теплой, травка в лощине была не просто зеленой, мягкой, пуховой, она еще и расти умудрялась, у нее был свой подгон, подрост, и Ольге казалось тогда, что она слышит, как растет трава. Ей казалось, что трава растет, прорастает, шевелясь, через нее. Вот ведь как: земля готовилась, отходила ко сну, а Ольга только-только вступала в свою женскую зачинающую пору. Всплеск первый и всплеск последний.
Ольга уверена: там, на поле, в лощинке, у нее и завязалось.
Врубилась… Ночью, случается, он уже и уснет, умаявшись и с работой, и с нею, а она все целует его потихоньку и целует. Ей даже лучше, что он — спит. Целует его шрам, что протянулся неровно, узловато, как борозда, прорезанная, прорванная в целине, от шеи через предплечье и ключицу до самого соска левой груди. Целует и каждый раз замирает от страха при мысли, что возьми осколок чуть глубже — и никогда бы не свидеться им, и сын бы у них не родился. Не нашелся бы, как говорят здесь, в деревне. Теперь-то она знает, что муж служил действительно в Афганистане, в разведбатальоне. Что такое разведбатальон, Ольга толком не знает, но само присутствие тут слова «разведка», да еще в таком энергичном, укороченном, наподобие штыка, виде, пугает ее еще больше. Из Афганистана он, знает Ольга, приехал почему-то с собакой. Вообще даже минерам, для которых специально натасканные собаки — первые помощники, не разрешается забирать с собой четвероногих сослуживцев. А он — забрал. Справил огромный «дембельский» чемодан, устроил в нем вентиляцию, втиснул в него Пальму, велел не дышать, не шевелиться, умереть и — довез. Мертвой. «Ожила» она уже в Союзе, на таможне. Но что делать? Не отправлять же ее назад, в Афганистан? А еще таможенников подкупило, что в чемодане у парня больше ничего не было. Ни джинсов, ни «Шарпа». Как не было ничего, кроме бритвы и поводка, и в сумке, переброшенной через плечо. Из аэропорта они вышли уже вместе. И первое, что сделала Пальма, — это, встав на задние лапы, взвизгивая и захлебываясь, облизала его от макушки до носков ботинок.
Читать дальше

![Георгий Пряхин - Интернат [Повесть]](/books/29922/georgij-pryahin-internat-povest-thumb.webp)