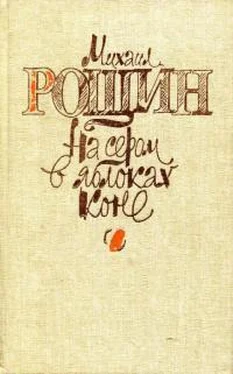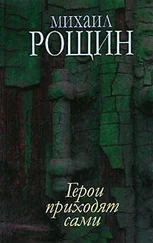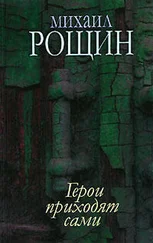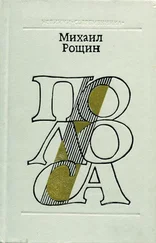— Может, зайдете?
— Спасибо. Времени в обрез. Водички дадите?..
— Да ну что ж водички! По такому случаю…
Они вошли в дом. Внутри тоже просторно и чисто. В большой передней горнице, у окна, склонилась над швейной машиной молодая полная женщина — когда Сергеев вошел, она встретила его таким напряженным взглядом, как Цыганков во дворе. Даже захотелось сказать: «Не бойтесь!» Это была жена Цыганкова, Лена. В деревянной кровати лежал черненький, похожий на Цыганкова младенец, грыз старую деревянную ложку и пускал слюни. В дверном проеме — другая комната — там, освещенная солнцем, сияла высокая белая кровать с пирамидой подушек. Вот как стал жить Цыганков, вот как обстроился. Что ж, все правильно.
— Ну, шикарно у тебя, просто шикарно!
Цыганков мягко, смущенно улыбался — Сергеев не помнил у него подобного выражения.
Лена с минуту суетилась в сенях, принесла воду — не в ковшике, не в кружке — в стакане на тарелочке.
— Может, покушали, пообедали бы с дороги-то?
— Спасибо, спасибо, как-нибудь в другой раз…
Интересно, помнит Цыганков, вспоминает или нет то, что Сергеев помнит? Или то, что на всю жизнь запомнилось мальчишке, вчерашнему студенту, незачем запоминать человеку, который прошел войну, немецкий плен и двенадцать лет бериевского «режима»? Цыганков был первым человеком, от которого Сергеев узнал об этом, о том, кто там был и за что́. Нет, не помнит, наверное, Цыганков тот летний день, когда они сидели вчетвером на берегу, у костра (были еще Рафик и Валька) — зеленая тайга кругом, река синяя, как море, на костре рыба печется, и водка разлита по стаканам. Они сидят, слушают, а Цыганков рассказывает: медленно, тяжело, с усмешечкой. Они слушают и ушам своим не верят, вчерашние московские студенты, ортодоксы.
— Ты все сварщиком? На уэска теперь небось?
— Там.
— А платят как? Не хуже, чем на плотине?
— Прилично. Да у меня выслуга теперь тоже. Ничего…
— Ну, понятно.
Нет, не помнит. Видно, что не помнит. И в голову не приходит.
Они снова стояли во дворе, уже у калитки, солнце слепило, и Сергеев держал над глазами перчатки — свои кожаные, шикарные финские перчатки, а Цыганков глядел в сторону. Он чувствовал, что Сергеев хочет что-то спросить, и его это беспокоило. Нет, не спрошу. Зачем? К Цыганкову хорошо тогда все относились, бережно. Он жил долго в палатке и два раза от комнаты отказывался в пользу семейных. Нелюдимый был мужик, но справедливый. Или все это лишь казалось по молодости, ореол такой Цыганкова окружал? Спросить? Нет, ни к чему Но не удержался все-таки.
— Помнишь, как рыбачить ходили летом? Ты нам еще рассказывал?..
— Рыбачить? Да вроде было…
Нет, не помнит. Ну ладно, аллах с ним.
— Теперь-то ты с лодкой… Ну пока. Рад был встретиться. Дом у тебя что надо!
— Да так вот, помаленьку. — Цыганков улыбался. — Надо как-то, года уж такие…
— Да ну конечно, о чем говорить! — Сергеев словно прощал его.
— Я сначала-то, правда, не думал оставаться, — сказал вдруг Цыганков. — А потом на комбинат переманили, бабу вот нашел…
— Ну да, — сказал Сергеев, — я понимаю…
Они распрощались. Сергеев пошел, оглянулся. Цыганков стоял за калиткой на фоне светлого своего, высокого дома, смотрел вслед. Сергеев помахал перчатками.
Он пошел теперь назад, снова по деревянным тротуарам, улица опять опустела — одни заборы, сараи, сараюшки, крылечки. Ну что ж, все правильно, так и должно быть, все в порядке. Или Цыганков не заслужил? Ребятенок в люльке, елочные шары. Нет, просто Цыганков был один как перст, нелюдимый, суровый, а дом, лодка, ребятенок — все это с ним не вяжется. Только и всего. И вообще все это ерунда. Жизнь есть жизнь. Ты на себя-то посмотри, сам каков. Когда сидели там, на берегу, слушали Цыганкова, ты кем был? И что у тебя было? Две ковбойки, одни штаны, раскладушка в общежитии? А теперь ты лежишь вечерком на тахте перед телевизором, и жена сидит рядом, и ниоткуда вам не дует, и идти никуда не хочется, и если кто звонит насчет того, чтобы собраться в субботу, то вы зовете к себе, чтобы не тащиться потом через весь город ночью на метро или не ловить такси на морозе. И вы еще ничего, еще что-то вас спасает, а вон Феденька Засекин из Египта себе голубой унитаз привез, будь оно все неладно.
Сергеев снова вышел на Енисейскую, только тут вспомнил, что хотел зайти на обратном пути на кладбище. Но теперь далеко было возвращаться, да и бог с ним, с кладбищем, надо лучше поглядеть на свой дом.
Он свернул на Дровяную, которая называлась теперь улицей космонавта Титова. Здесь путь короче, Сергеев, бывало, всегда бегал по Дровяной, опаздывая на работу: на Енисейской легче остановить самосвал или «будку».
Читать дальше