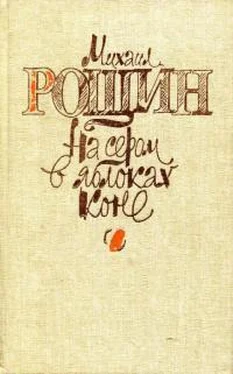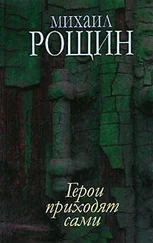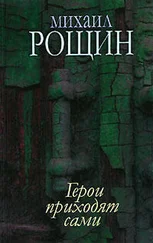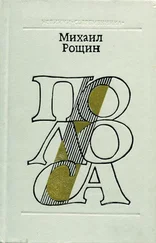Они открыли банку тушенки, поели с хлебом, погрызли сахару. Дождь уже не радовал. Пока ели — молчали. Гроза постепенно отошла, гремело теперь далеко — где-то как раз над Толей Вороновым (как-то он там, бедолага?), — лило, хоть и не с такой силой, но все равно густо. Надо было устраиваться на ночь. Но как? Да и вообще спать не хотелось. Хоть и устали — день тянулся длинный, душный, но сейчас все прошло. Достали чехлы от мешков, со смехом стали примериваться, как лучше лечь, где меньше льет.
— На двоих никак не хватает, — сказала Оксана Семеновна.
— По очереди придется, — ответил Горев, и что-то ему вдруг стало не по себе.
Шалаш они поставили на взгорке, под высокими елями, лес уходил дальше вверх по склону сопки, а книзу шла небольшая лысинка с высокой травой, и еще ниже ложбина, густо заросшая молодняком, — там Горев рубил ветки для шалаша. В этой ложбине сейчас вовсю гудела вода. Трава на поляне полегла в одну сторону, как мокрые волосы, и среди травы поблескивали бегущие вниз потоки.
Горев вдруг сообразил, что делать.
— А, все равно мокрый, была не была! — крикнул он и в секунду стянул через голову рубаху. Оксана Семеновна не успела крикнуть: «С ума вы сошли!», как он выскочил под дождь в одних трусах и заплясал перед шалашом.
— Ого-го-гой! Улю-лю! — Он вопил что есть сил.
Оксана Семеновна, схватившись за голову, хохотала, кричала:
— Ой, умру!
Он прыгал, задирал ноги, делал стойку на руках, катался в напитанной водой траве.
— Хватит! Хватит! — звала Оксана и махала из шалаша приготовленным ему полотенцем.
Вот это был душ! Он растерся, глотнул отдающей пластмассой водки из фляжки и, очутившись в своем спальном мешке, закурив, заурчал от удовольствия. А она за ним ухаживала, помогала. Вот это жизнь!
— Сейчас бы на танцы какие завалиться, гулять всю ночь! — сказал он.
Оксана Семеновна, согнувшись, ползала на коленях, примащивалась рядом.
— Тоже еще заяц во хмелю! — ответила она. — Подвигайтесь-ка лучше, разлегся, как барин!
Он схватился, подвинулся, по ногам тут же стало тюкать: кап-кап, кап-кап…
— И отвернитесь или закройте глаза!
— Да господи, тьма такая…
— Все равно…
Он отвернулся, слышал, как она раздевается — рубашка, сапоги, брюки — как бормочет:
— Черт, все мокрое, как завтра надевать?..
И вот тут он услышал, как начинает частить его сердце.
Голова Оксаны Семеновны была совсем рядом — он слышал ее дыхание, запах мокрых волос.
— Как над вами, каплет, товарищ коллектор? — Она проговорила это чуть не в самое ухо.
— Я уж молчу, товарищ начальник, — отшутился он. А слова выталкивались с трудом. Он как будто еще ничего не понимал.
Дождь вдруг пошел сильнее, громко бил по прозрачной пленке.
— Ого! — сказали они разом. Голос у нее был по-прежнему веселый. Неужели она притворяется?
— Ну ладно, спокойной ночи, Тарзан Иваныч! И перестаньте уж дымить, ради бога!
— Да, простите. Спокойной ночи! — сказал он поспешно. И кажется, слишком поспешно: она умолкла и — он это почувствовал — чуть отстранилась.
Больше они не сказали ни слова, и она, кажется, скоро заснула.
А Горев не мог спать. Нет, он совершенно не мог спать. Он чувствовал, что происходит нечто страшное. Просто страшное. По-настоящему. Он лежал затаив дыхание. Все его прекрасное настроение исчезло. Он слишком ясно понял, чего ему хочется. Он снова и снова представлял себе, что и как он сейчас сделает. Это желание ошеломило его. Больше того — оскорбило, обезоружило, раздело, перевернуло, растоптало. «Как же так? — говорил он себе, не в силах остановить ни одну мысль. — Как же так? Я, выходит, такая же сволочь, что ли? Почему это? Что они со мной сделали? Я ведь не хочу. Не хочу?!» И он снова видел, как она лежит сейчас здесь в одном купальнике, а может, и не в купальнике, и если он протянет руку, вот так, чуть-чуть, он коснется ее, да, он может протянуть руку как бы случайно, во сне, а чехол тонкий, совсем тонкий.
Но что же это?.. Разве он не чувствует к ней брезгливости и презрения, разве она хоть чуть-чуть похожа на ту женщину, девушку, которую он мог бы любить? Неужели э т о сильнее всего, и ничего не стоят ни презрение, ни уважение к самому себе? А Толя?.. Что Толя? Толя не стелил бы сейчас двух чехлов, вот и все… Как? Да, вот так, если протянуть руку… Нет, это чудовищно, можно с ума сойти. Но разве не она сама виновата?.. Неужели она может спать? Значит, ей все равно, она ничего такого не думает. Но я-то, я-то! Дамоклов меч! Ох-хо-хо! Нет, я должен уйти. Встать и уйти… Нет, я буду спать, мне холодно, я придвинусь ближе, вот так. Нет, мне жарко. Я только коснусь ее, и все, потому что я не могу так больше. Что ты делаешь, Горев? Ты понимаешь, что ты делаешь? Ты представляешь, как она будет на тебя завтра смотреть? А Толя? Это ведь Толино, ты забыл?.. Что Толино? Почему? Такое же Толино… Ах, вот как ты стал говорить?.. Но я только коснусь, вот так, и все, вот тут ее плечо, да… Он дышал очень спокойно, сонно и как будто случайно, во сне, забросил руку, и она не пошевелилась, не услышала, и он оставил руку, и, наверное, прошло еще полчаса, прежде чем он подвинул руку с ее плеча чуть ниже… Нет, это было выше его сил. Если бы она сама, пусть бы она сама, и пусть бы смеялась и презирала потом, все равно. А он не может. Это не трусость. Он ведь человек, в конце концов. Но где, где эта сила, которая помогла бы ему сейчас? Отрубить палец, как отец Сергий у Толстого? Но разве дело в этом? Дело в том, что оно явилось, это желание, что оно есть, что оно побеждает.
Читать дальше