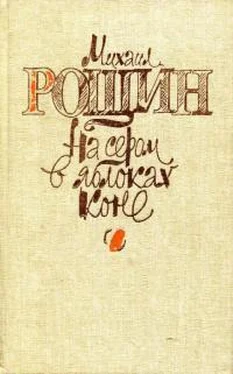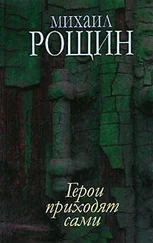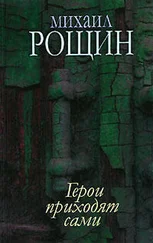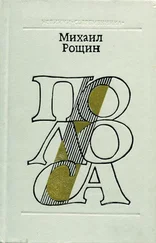Да, о чем я думала, что вытворяла, удивительно, как это оказалось непохоже, то, что я представляла себе, когда говорила «этот мальчишка будет мой», и то, что вышло на самом деле. Видя себя со стороны, я думала: кто это? Я теперь только и делала, что врала, ловчила, обманывала весь мир, — чтобы бежать к нему, быть с ним, чтобы он целовал и стискивал меня. Вспомнить хотя бы, что мы вытворяли на даче! Бросались друг к другу за каждым углом, обдуривали бабку, прятались за шторами, Валя натыкалась на нас, куда только не сунется: в кладовке, в мансарде, в погребе. Я старалась дотянуть допоздна и непременно оставить его ночевать. Бабка этого не любила, при всем своем хлебосольстве брезговала чужими людьми в доме, ей все казались недостаточно чисты, она топала по дому, нюхала и фыркала, как еж; нервничала, сама не спала, ей казалось, чужой человек ходит в темноте, трогает вещи. А уж тут-то тем более была начеку. «Аля! Аля! Ты где?» — только и слышится. А в меня к вечеру уж такие микробы вселялись, такие бесы, кучей. Петька полночи стоял в трусах у притолоки, или сидел, скорчась, за креслом, или выходил, якобы покурить, на крылечко, ждал меня. А я — то пить, то в уборную, то есть, то за таблеткой от головной боли. И в эти две минуты он должен успеть схватить меня, стиснуть, обцеловать, а я целуюсь, а сама ногой отбиваюсь от проклятой Кошки, которая так и цокала за мной когтями по полу в темноте, и уже слышу, как бабка скрипит, тянется свет включать. И смех и грех. По-пластунски ползала, бабку обманывая, одеяло колом оставляла, будто я на месте лежу, если она вдруг свет включит. Да еще и шипела на бабку утром: «Как тебе не стыдно! В чем ты меня подозреваешь! Уж не думаешь ли ты, что я к нему в постель бегала!» Да с таким апломбом, так искренне, микроб всю совесть сожрал! Бабка заморгает, запыхтит виновато, а потом все-таки скажет: «На губы свои лучше посмотри». Губы действительно все время были опухшие или синие, мы целоваться толком не умели (или умели?), но как она-то видела, слепая ведь!
И все-таки было весело, и, пожалуй, только это лето и вышло у нас по-настоящему беспечным и счастливым. И ведь еще без конца зубрили, работали, поступали — как успевали? Но и быстро лето пролетело, а я словно чувствовала: лучше не будет. И рубеж наметила: 31 августа, конец лета. Терпение мое кончилось, а Петька — я видела, — без меня ни на что не решится; заставить — это было не в его характере.
Запомнилось, как мы уезжали. Обычно я не участвовала в больших хозяйственных хлопотах: переезды, уборки, ремонты, осенние заготовки, — это обходилось без меня, вроде я все еще маленькая. Это была бабкина епархия, так она нас приучила. Бабка командовала, Валя исполняла. Но в этот раз — странно, то ли оттого, что мать не приехала, а бабке все тяжелее становилось справляться с хозяйством, но скорее совсем по иным причинам, я вступила в дело: советовала, распоряжалась, спорила, настаивала — это увезти, это оставить, это туда, это сюда. Я еще себе не признавалась, но уже появился у меня дальний прицел: у мамы с бабкой есть где жить, у Ольги есть, а вот дача… Часть ее — собственно дом, без террасы, — зимняя, можно печку топить, жить зимой, ехать до Никольского пустяки, почти все здешние испокон веку в Москве работают, — чем не жилье? Я бы все переделала, перекроила на свой лад, чем плохо? Я и 31-го решила вернуться на дачу скорее всего поэтому: пусть здесь все начнется, может быть, так суждено.
Мы уезжали, день стоял солнечный, теплый, и участок и дача оставались будто в недоумении: куда же вы? Бабка, как всегда перед поездкой, точно невменяемая, ходила на рассвете прощаться с кустами, с соснами — уже не первый год устраивала эдакий ритуал: мол, до следующего лета не дожить, надо с землей проститься. Я, конечно, кричала: «Перестань ломать комедию, ты всех переживешь!» — а проклятый микроб без всякого стеснения шептал на ухо: мол, все может быть, и не останусь ли я в таком случае практически хозяйкой на даче, поскольку родители здесь не живут, редко приезжают. (Я признаюсь в этих ужасных мыслях, поскольку не я сама, а только микроб внушал их мне.)
Мы подсаживали бабку в кабину, как-то так получилось: никого из взрослых, одна молодежь, мы все по-своему делали, и Валя бегала, ошалело глядела на меня, но слушалась, мы подсаживали ее в кабину, она оступилась, чуть не упала, и я опять увидела, как она беспомощна, как мало, должно быть, осталось ей жить. Мы не могли удержаться от смеха, бабка завизжала, обругала нас, а я стыдилась не нашего глупого смеха, а испытывала стыд за нее, за м о ю бабку, перед м о и м Петей, перед Левушкой, который нам помогал, перед чужим малым-шофером: поразительная, холодная, эгоистичная скотина стала, фантастика! Кажется, от любви надо петь, прыгать, щебетать, а тут что? Хотя, в принципе, все объяснимо: я и пела, и щебетала, но и понимала: надо к обороне готовиться, силы стягивать, окопы копать.
Читать дальше