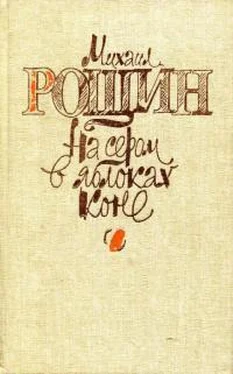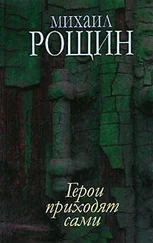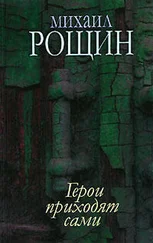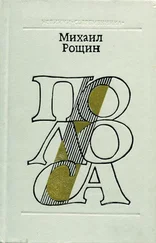Мы оказались именно на бабкиной кровати, высокой и широкой, — я было заартачился, мне бы больше подошло какое-то иное место, — но Алина вела дело так, как хотела, выполняла программу пункт за пунктом, голова шла кругом, и она уже не выпускала меня, раздетая, под одною простыней, в полосах тени и света, и в моментальных, секундных, позволяемых себе взглядах вращалось и мелькало передо мной т е л о — локти, колени, живот — «ворох пшеницы, обставленный лилиями», и два сосца, как два козленка, в самом деле.
От неумения и волнения все происходило до стыдного быстро, кратко, ее стиснутые зубы поразили меня. И вот тут, в самый важный миг, — батюшки! — заскребло, зашаркало на крыльце, стукнулось что-то, и, панически пугая нас, яро залилась собака.
Это не могла быть Кошка и не мог прийти с собакой никто из семьи Алины, но нам, конечно, тут же примерещилась Кошка, и бабка, и Елена Владимировна в кожаном пальто и кожаной шляпке кастрюлькой, как я видел ее весною, — я вмиг слетел и схватился за брюки. Но Алина остановила меня резким и почти брезгливым по поводу моего страха жестом. Ничего хорошего не обещала ее походка тому, кто нам помешал, — медленно, в простыне, прошла она на террасу к дверям. Собака заливалась, это лаяла не Кошка, которая вообще редко лаяла. И кой черт принес, откуда эту чужую собаку?
Алина поглядела в щель, убедилась, что там нет никого. Собака, пока она глядела, так же внезапно убежала, как и появилась, — я тоже увидел в щель из комнаты эту черно-белую лядащую дворнягу, — она потрусила вдоль штакетника. Я усмехался, пожимал плечами, тряс брюками перед собою, не зная, что делать. Алиса вернулась, не глядя на меня, взяла на ходу со стола кусок сыра, плюхнулась на спину и стала жевать сыр, глядя в потолок.
Глаза ее были темны и незнакомы, то, что она жует, казалось верхом кощунства и презрения ко мне, я так и остался в стороне, переваривая свой страх и теперь стыд своего страха. Но поверх мелочей и неудобств поднималось в душе ликующее и веселое чувство победы — осуществления, — может быть, счастья.
— Видела бы меня сейчас бабка, — сказала Алина, усмехаясь криво. Она тоже думала о бабке».
«…Не думала я ни о бабке, ни о мамке, ни о ком и ни о чем, все это глупости и сентиментальная чушь — все изменилось в моей жизни и стало иным. И я поняла: я всегда думала о себе и хотела вырваться и жить, как мне хочется, и это началось рано, лет, может быть, с двенадцати-тринадцати, всегда, как только они стали помыкать мною. Отсюда моя ранняя самостоятельность, и одиночество, и жажда самоутверждения. И думала я в последний год только о том, как бы скорее все узнать, испытать, проверить — так ли, как говорят, пишут и показывают, — я никогда не верила, что из-за э т о г о можно страдать, умирать, убивать, — ерунда. Я думала, к а к все сделать, а не ч т о, — как лучше, удобнее, быстрее, проще, как, извините, не попасться ни в прямом, ни в переносном смысле, и не тянуть, и не размазывать всякие лишние переживания. Я их теперь не боялась — ни мать, ни бабку, ни Ольгу, — пошли они к черту, они мне надоели. А он рот разинул, стоял перед той же бабкой, слушал ее сентенции — я ненавидела эту его манеру покорности перед ними, приниженности, будто они королевы, а он нищий. То есть так примерно и было, но он-то, думала я, лучше их и выше в сто раз, он знает им цену, бабке и матери, — как я мечтала уйти из этого дома, я всегда подозревала, что они обдуривают отца, мать ему изменяет, им пользуется, все тянет, и его же еще презирают и унижают. «Простолюдин», видишь ли. Я не бабкина внучка — никогда ею не была, и не мамина дочка, вот в чем дело, — и если они научили меня чистоте, скупердяйству и порядку, это еще ничего не значит, я всегда была дочерью своего отца и внучкой бабы Нюры из Горького. О бабе Нюре у нас и говорить-то считалось зазорным: у бабы Нюры семеро детей (это одно уже вроде неприлично) да огород с картошкой — я, дура, лет до двадцати бабы Нюры тоже стыдилась и фыркала: деревня, мол, село. Только когда мать ушла, отца бросила, и бабка умерла, я до конца поняла, кто я, а то они путали меня всю жизнь, с панталыку сбили — вся эта музыка, музыкальная школа, стихи, Пушкин, «Алина, сжальтесь надо мною…» — я, кстати, всегда знала, что имя у меня тоже вычурное, не мое, Алина — какая, к черту, Алина со своими скулами, широкой костью, с круглым носом и короткими ногами, — точно как у бабы Нюры, мне бы надо Дуней зваться, Парашкой, Акулиной.
Меня так воспитали, отца я видела мало, контакта у меня с ним сроду не возникало, вечно он на работе. Никакими особыми чертами или яркими достоинствами он не обладал — тоже такой же коротенький, как я и вся родня, белобрысый, тихий, нос картошкой. Вечно улыбнется виновато, «я пошел, чадушки-домочадушки», — да еще окает. А то, что без него никакие Ту не летали бы, что он лауреат и вообще, — это разве кого касается?.. Когда я разобралась, кто где и кто чего стоит, отец, бедняга, уже умер, они его из квартиры выжили, с дачи выжили, обирали, он безропотно все отдавал. Аристократки верующие, белая кость, голубая кровь, одиннадцать писем от поэта Нарбута, ну кто теперь знает поэта Нарбута, кому он нужен, своих пруд пруди. А вели себя как выжиги.
Читать дальше