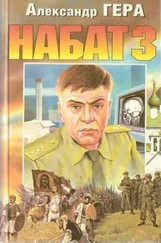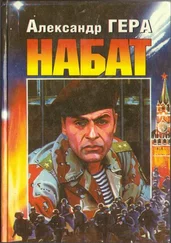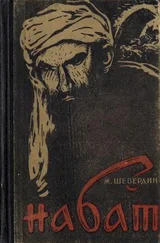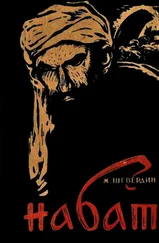— Понимаешь, Виктор, — разобъяснил Шубин, — эта Ряжская, она... как бы вернее сказать... В общем, есть, есть у нее общения с высшими силами, — кивнул на храм Христа Спасителя. — Сколько живем, всегда вперед да вширь смотрит. Чуткая к голосу судьбы. На заводе это знают, авторитет у ней всегда был. А сейчас-то, после всего, что сбылось по ее предчувствиям, даже наши кибердиссиденты со средним высшим образованием ее Вангой кличат.
— Да ладно тебе, — отмахнулась Нина.
— Нет, не ладно, — настаивал Дмитрий. — Знаешь, за что она Окуджаву не переваривает? «Тихий треп о том о сем мы с собою унесем».
— А он и есть «Тихий треп»! — взорвалась Ряжская. — Приземленец! Философия подворотни, пусть и арбатской. А «Бумажного солдата» вовсе не приемлю. Такие солдаты, без ружей, с лопатами, в сорок первом Родину спасли. Шли в огонь, забыв о смерти.
Донцов механически кивал головой, с мольбой о помощи глядя на храм Христа Спасителя, и запоздало отреагировал на удивившие его слова:
— Что значит среднее высшее образование?
— А то и значит: образование не хорошее, а именно что среднее. Знаний на троечку. Полуфабрикаты. Долбонавты. Нас-то лучше учили. Недавно прислали мажорку — на «порше» ездит! — так она с пилкой для ногтей не расстается. Временные люди. Наша местня в шоке. Так и хочется послать эту мажорку подальше, да жаргоном с половыми извращениями. А еще лучше элитку эту — розгами, вымоченными в соленой воде, да по филейным частям. Чесслово.
Виктор не перебивал, не форсировал. Он понимал, что легкий треп как бы оттягивал предстоявший тяжелый разговор, позволяя Ряжской и Шубину покрепче подготовиться к объяснениям.
Наконец рычаги управления разговором твердо взял Дмитрий, отодвинувший блюдо с початым «Цезарем».
— Начинать, Нина, надо издалека, — уверенно сказал он. — С фамилии. Для тебя, Виктор, те похороны были событием скорбным, но рядовым. На самом же деле они символические, даже сакральные. Кем был Степан Степаныч? По титулу бывший инженер-конструктор космического завода, хотя свой вклад аж в полет Гагарина успел внести. Но почему он, с колыбели Соколов, добавил фамилию жены? И обрати внимание — когда? В самые худые перестроечные годы. Однажды за домашней настойкой — Нина умеет! — я спросил. А он: эх, Дима, неужто не понимаешь? Это мой заводской приятель Подлевский, — Дмитрий сверкнул глазом на Донцова: «Запомни фамилию!» — надо мной подсмеивался. Я молчу. А он: по первым буквам Степана Степановича Соколова-Ряжского прочитай. Что получится? СССР! Чую, рушится держава, а без нее и мне не жить. Когда настанет сон без меры и пробуждения, в лоне бесконечности, хочу, чтобы на могиле моей потомки читали: «СССР». — Дмитрий коснулся салфеткой глаз. — На доске могильной, говорит, выбейте так, чтобы заглавные буквы хорошо виделись. Я, говорит, из гроба гляну проверю. Вот, Виктор, кого мы хоронили. Ты и не заметил, а для нас то были символические похороны прошлой страны. Все! Умерло былое. Другая жизнь вступила в свои права.
— А Подлевский твердил, будто отец среди Соколовых хочет особняком значиться, — вступила в разговор Нина. — Они же в Раменках работали рядом, приятельствовали.
За столом установилась тишина, и Донцов понял, что безопасная, нейтральная часть разговора завершена, Ряжская ищет повод перейти к главному. Подтолкнул:
— Ну ладно, это про Степан Степаныча. А Богодуховы?
Минута — и на него в два голоса обрушилось нечто такое, что заставило Донцова понять: волею судеб он оказался в сердцевине бесовски закрученных событий, исход которых, имея частный интерес, отразит суть скоро грядущих в России исторических процессов, способных определить образ будущего, над которым бьется ныне не только Кремль, но каждый честный человек, страдающий о России. Чуть ли не физически ощутимая связь между личной судьбой и взыскуемым российским поворотом поразила Донцова. В трагические взлеты повествования он мелко, едва заметно крестился на храм Христа Спасителя, вымаливая силу и стойкость для предстоящей духовной брани, от которой — это он знал точно! — ему не устраниться.
А Ряжская и Шубин, вырвавшись из тюрьмы, замуровавшей их память, нарушив мораторий на воспоминания, отбросили табу. Неровно и нервно, перебивая, дополняя, поправляя друг друга, они горячо, болезненно, едко выплескивали наболевшее, освобождаясь от груза, много лет давившего их, не стесняясь и обжигающего кипятка. Они искренне, до санобработки собственных душ исповедовались. Но исповедь шла не обрядовая, не об искуплении. Истово колотились они о том, чтоб не сошли на нас еще более тяжкие злополучия, чтобы устранилась от дел, говоря их словами, «шваль мироздания», натворившая столько бед, чтобы скорее сошло помрачение национального сознания и завершился в России затянувшийся государственный «тяни-толкай», при котором великая держава топчется на месте.
Читать дальше