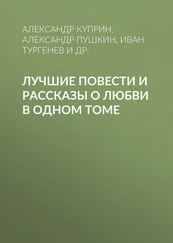А тот жил в неведении. Правда, однажды его вызвали на допрос, но он носил, как ему казалось, чисто воспитательный характер. Последовавший обыск, во время которого забрали фотографию Кельмана, конечно, встревожил его, но так как он не знал, что в деле замешан Пфанншмид, беспокойство быстро улеглось.
И вдруг Рамбах получил приказ явиться в походной форме в штаб батальона: он приготовился держать ответ перед высокой инстанцией, но, не чувствуя за собой вины, надеялся оправдаться. Насторожил его лишь приказ прийти без оружия. Но он тут же приободрился. Мало ли что, кому-то мог понадобиться плотник, не исключено, что его переводят в другую часть, может, даже в инженерную. Правда, в подобных случаях ни у кого не отбирали оружия, ибо солдат без него — не солдат. Но Рамбаху предстоял двухчасовой путь, долгий путь через заснеженный лес. И он уверил себя, что о нем просто позаботились и можно лишь радоваться, что не нужно повсюду таскать за собой свою пушку. Но, раз возникнув, ощущение смутной тревоги не проходило, и, так и не сумев его побороть, он сказал себе: «Что ж, если меня все-таки посадят на скамью подсудимых, я раз и навсегда сниму с себя подозрение, ибо в конечном счете мне не так уж трудно доказать, что я всегда выполнял свой долг…»
Ему дали всего пятнадцать минут на сборы, и он не мог попрощаться с товарищами, которые в это время не то рыли укрепления, не то выполняли еще какую-то трудовую повинность. Лишь один из них случайно спустился в блиндаж, когда Рамбах собирался в дорогу, и этот солдат остерег его:
— Берегись чернорубашечников!
Тут уж Рамбах по-настоящему испугался. А солдат прибавил тихонько:
— С партизанами ты бы легко нашел общий язык. Если тебе удастся сойтись с ними — ты спасен. Где их искать, ты знаешь. Желаю удачи.
Этот солдат высказал то, что тяжелым кошмаром мучило Рамбаха. Ах, какой это был животный, парализующий страх, который распространяли чернорубашечники! Чернорубашечники, то есть эсэсовские отряды особого назначения, уже успели завоевать печальную славу.
Рамбах тоже слышал о них, вернее, он неохотно прислушивался к тому, что говорили о них другие. Он ждал окончания войны и хотел быть осторожным до конца. Он и сейчас надеялся выкрутиться. Пробиться к русским, — что ж, ничего невозможного в этом нет, нужно только дождаться ночи, переправиться на тот берег и раствориться в темноте. Но он боялся, что его заметят, а ведь он хотел иметь чистую совесть, когда придется держать ответ. «Если уж они меня хотят прикончить, тогда им придется расстрелять всю армию», — убеждал он себя.
Полчаса спустя рядовой Рамбах был сражен оружейным залпом. Обливаясь кровью, он с поднятыми руками упал в снег. Несколько недель спустя фрау Рамбах получила из штаба полка официальное извещение о смерти мужа. «Пал за фюрера и отечество», — прочитала она.
Перевод Л. Бару.
Со времени поджога рейхстага я то и дело переезжал с места на место. Моя жена, прежде часто исполнявшая на многочисленных митингах антифашистские стихи и песенки, еще раньше, — скорее случайно, чем преднамеренно, — уехала в Вену. Оба мы числились в широко опубликованных списках государственных преступников, лишенных прав гражданства. Нас повсюду искали.
Окольными путями я получил искусно составленное письмо. Из него следовало, что мне надлежит явиться к директорам немецкого варьете в Праге Вайзе и Фрайману для подписания ангажемента на роль конферансье. Я тотчас сообразил, что Вайзе и Фрайман были не кто иные, как Ф. К. Вайскопф и Бруно Фрай, «конферансье» означало редактор, а «варьете» могло быть только журналом.
Некий пожилой полицейский чиновник из социал-демократов тайно выдал мне новый паспорт; одна еврейка, врач по профессии, сама еще не подвергшаяся преследованиям, дала мне денег на дорогу; какая-то хорошенькая, не вызывавшая никаких подозрений девушка купила мне билет.
— Во втором классе вряд ли станут искать коммунистов, — заявила она и нежно обняла меня на прощанье, потому что у каждого поезда дальнего следования шныряли шпики. Я так и не узнал, как на самом деле звали «Герду» и кто она такая.
Я нашел пустое купе, устроился, а когда поезд уже тронулся, в дверь ввалился какой-то человек и плюхнулся на скамью напротив. Меня бросило в жар, потому что внешность этого типа яснее ясного свидетельствовала о его профессии. Приземистый, крепкого телосложения; широкоскулое, обветренное лицо с коротко подстриженными усами; черный с проседью ежик; темно-зеленая охотничья куртка и тирольская шляпа с пером, — кем еще он мог быть, кто еще мог так вырядиться? Если бы я играл полицейского шпика, ни один режиссер не выпустил бы меня в таком виде на сцену, считая, что я безбожно переигрываю. Но почему бы нацистам и не «переигрывать»? Ведь они у власти.
Читать дальше
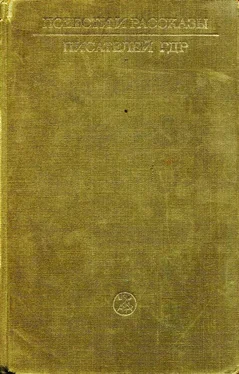









![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)