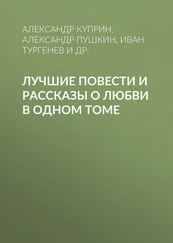И он двинулся вслед за Кеслером, еще неуверенно, но уже чувствуя прилив неизвестно откуда взявшихся сил. Он скользил по бегущей перед ним лыжне, словно прозрев после многих лет слепоты. И с какой-то почти пророческой ясностью сознавал: «Я жив, мы оба живы, — он и я, — мы все будем жить…»
Перевод Е. Михелевич.
Бодо Узе
СЕНТЯБРЬСКИЙ МАРШ
Солдат вернулся домой только под утро. Он бросился на кровать и крепко заснул. Часов около восьми в дверь постучала мать. Он не проснулся. Мать дала ему поспать еще полчаса, хоть и была очень встревожена телеграммой. Потом вошла в комнату и начала его расталкивать. У него были такие бицепсы, что двумя руками не обхватишь.
— Вставай, Герман!
Солдат приоткрыл глаза и кивнул головой.
— Да вставай же, — сказала мать, — телеграмма!
— Чего тебе? — спросил он тихо.
На заспанном лице солдата отразилось недоумение, потом он недоверчиво улыбнулся, вздернув брови, и глаза снова закрылись.
С тяжелым вздохом мать раздвинула занавески на маленьких оконцах, чтобы впустить в комнату свет. Мужчина, лежавший на кровати, потянулся, грудь его была покрыта светлыми волосами. Когда старуха вышла, он вскочил, прошел, шлепая босыми ногами, в угол, где на железной подставке стоял кувшин с водой. Поднял кувшин и отпил воды: его мучила жажда, — ночью он крепко выпил.
«Лучше бы пива, — подумал он, — нет ничего лучше пива, когда хочется опохмелиться!»
Опуская на место кувшин, он недовольно посмотрел на себя в зеркало: лицо его было немного припухшим. Потом поставил на пол таз, встал в него обеими ногами и опрокинул кувшин себе на голову. Почти вся вода пролилась мимо. Она растеклась по короткому листу линолеума и побежала в широкие щели между половицами. Ощущение влаги было ему приятно, и он не спешил одеваться.
Мать снова открыла, но испугалась голого мужчины, который был ее сыном. Герман быстро натянул брюки и закричал:
— Да входи же, входи!
— Ты, видно, вчера совсем забыл, на каком ты свете, — сказала она, укоризненно покачивая головой, но вдруг заметила лужу на полу. — Надо подтереть, не то протечет насквозь, — проворчала она и принесла из кухни тряпку. Сын смотрел, как она, ползая на коленях, вытирала пол.
— Нечего было беспокоиться из-за такой малости, — произнес он.
Мать швырнула мокрую тряпку в таз и, подняв голову, взглянула на него.
— Что там написано, в телеграмме-то? — спросила она.
— А ты ее куда дела? — строго спросил Герман.
— Да на столе же она, на столе! — вспылила мать. — Совсем уж ничего не видишь, глаза заплыли, что ли?
Грубые солдатские пальцы развернули бумагу: она громко зашуршала.
Старуха все еще стояла на коленях и смотрела на сына, на его широконосое лицо, на голую грудь, поросшую светлыми волосами. «Вот он какой, мой парень», — думала она. Она гордилась сыном, и ей стало неловко за свои спутанные волосы и грязный платок, накинутый на плечи. Во взгляде ее маленьких серых глаз отражались нежность и страх.
— Выходит, мне еще вчера надо было ехать! — медленно проговорил Герман. Он смотрел поверх телеграммы прямо перед собой, на комод, где под стеклянным колпаком красовался свадебный убор матери. Шелковая подушечка, на которой лежал венок, была изъедена молью.
— Но ты же здесь всего два дня, — сказала мать. — А отпустили тебя на целую неделю.
Солдат пожал плечами.
— Отпуск полетел ко всем чертям, — проворчал он. Свернул телеграмму трубкой. Насупился.
Тяжело вздыхая, — это уже вошло у нее в привычку, — мать поднялась на ноги.
— Пойду сварю-ка я кофе, — успокоительно сказала она, — от него и отцу твоему всегда, бывало, полегчает.
Солдат все еще стоял у стола. Он выпятил нижнюю губу, и хмуро уставился куда-то в пространство:
— Значит, надо ехать.
Он злился. Злился, что пропьянствовал всю ночь. Лучше было остаться после кино с Эммой. Но ему хотелось выпить, и он проторчал до утра в пивной, хоть и пообещал Эмме, что придет потом к ней. Одна кружка следовала за другой; сколько же раз их наполняли? Пять, шесть? А в промежутках пили еще шнапс, отдающий землей. Никуда Эмма не денется, подумал он тогда. Толстяк провозгласил тост: «За наш вермахт, которым мы вправе гордиться». Так и не попал Герман к Эмме.
— Ничего хорошего и быть не могло, — сказала мать и поставила кофе на стол. — С чего бы это нам вдруг телеграммы получать? Вот и надо тебе ехать.
Он взял со стола ломоть хлеба. Были и соленые огурцы. Потом налил кофе в большую жестяную кружку и присел к столу. Мать неподвижно стояла рядом. Она придвинула к нему кувшин с молоком и смотрела, как он ест.
Читать дальше
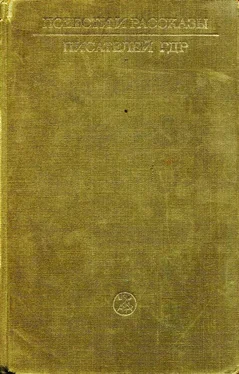









![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)