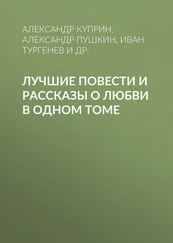Герман был рад, когда видел хотя бы издалека в толпе велосипедистов этого лохматого человечка, полного надежды и доверия. Как-то под вечер он дал велосипедный звонок под кухонным окном Пауля, выходившим на Майн. За последние дни опять произошло много такого, что просто задохнуться можно было, оставаясь наедине с собой. Надо все-таки еще разок зайти к Паулю. Зиверт как-то спросил мимоходом: «Что это, между вами черная кошка пробежала? Раньше, бывало, водой не разольешь!»
Открывая дверь, жена Пауля радостно воскликнула:
— Как хорошо, что вы опять к нам заглянули!
Герман вошел, окинул взглядом комнату и сел. Корешок встретил его из своего угла дружеским ворчанием. Комната, как всегда, блистала чистотой, окна и полы сияли. Пауль поставил ноги на газетный лист, который ему тут же подложила жена: ему лень было снять грязные башмаки.
— Вы, наверно, и от Пауля знаете, — сказал Герман, — что теперь не имеешь времени, как бывало прежде, поболтать и кофейку выпить.
— Что же дальше-то будет? — спросила жена. — Как вы считаете, Герман?
Герман внимательно посмотрел на нее. У нее были три прозрачных, надетых друг на друга лица: ее прежнее, исконное лицо, со следами былой доброты и материнской заботливости, которые еще просвечивали сквозь позднейшие наслоения. Второе было изборождено глубокими морщинами горечи и скорби. А третье почти закрывало их, но на нем были новые, недавние, явственные следы тревоги, всевозможных забот и еще чего-то, что он не сразу разгадал. И он ответил:
— Одному богу известно.
Пауль из своего угла метнул в него короткий предостерегающий взгляд. Герман понял, что Пауль так же одинок, как он сам; он, Герман, в обществе своего веселого сынишки и беззаботной, маленькой, вечно распевающей жены, и Пауль — втроем с этой расплывшейся, вечно скребущей полы старухой и мертвым сыном. Но только его, Германа, одиночество угнетало сильнее. Пауль мирился с одиночеством, точно и это был закон природы, пусть тягостный, но непреложный: такие люди, как мы с тобой, не могут не быть одиноки в такие времена, тут ничего не попишешь. Жена поставила на стол кофейник и чашки и сейчас же стерла капли, упавшие на клеенку, когда она разливала солодовый кофе. «Она, верно, потому так помешана на порядке, — думал Герман, — что чует в мире большой непорядок и не знает, как с ним справиться». Жена Пауля сказала:
— Не может же у нас теперь все сорваться! С нами-то не может случиться того, что случилось с итальянцами, — ведь мы все-таки совсем другой народ; такой беды даже представить себе нельзя. Неужели все это горе было даром?
— Даром горе никогда не бывает, — сказал Герман.
— Вы говорите, точно священник.
Она чувствовала себя включенной в общину матерей, чьи сыновья погибли. И это чувство придавало ей гордости. Они поговорили еще, прихлебывая кофе. Когда Герман поднялся, Пауль сказал жене:
— Я провожу его до моста.
Герман вел свой велосипед, а Корешок семенил рядом. Он сказал:
— Одному негодяю, значит, крышка.
— Покамест еще нет, — сказал Герман. — Ведь всякими фокусами его вызволили из тюрьмы.
Пауль сказал:
— Никуда оба висельника не денутся. А нашим полезно посмотреть на то, как идолов швыряют на помойку.
Возле моста через Майн они остановились. Поглядели на воду, где солнечные крендели, казалось, не гаснут, а тонут. Герман сказал:
— Надо что-то делать.
Пауль кивнул. В памяти проплыло все, чему он был свидетелем за истекшие годы, — разочарования, возражения, отговорки, вопросы: «Да подходящая ли это минута? Да поддержит ли кто-нибудь?» Вместе с этими мыслями перед ним проходили и люди, в которых ему теперь предстоит разобраться. Он знал их насквозь, этих людей. Поэтому ответ не потребовал у него много времени — ровно столько, сколько нужно, чтобы кивнуть головой: «Да, несмотря ни на что, это подходящая минута. Что-то делать надо».
В доме Пауля жил один парень, его звали Отто Шанц. Когда Пауль, прежде чем ответить на предложение Германа, перебрал в уме множество людей — запуганных, трусливых, развращенных, черствых, подлых, — он вспомнил и о Шанце. Шанц в первый же год войны лишился ноги, и у него было раздроблено несколько костей. Для армии он не годился, но на завод его послали. Раньше это был удалой красавец, веселый и отчаянный. У него были десятки любовных историй, и он участвовал в десятках драк. И на войне, до ранения, он отличался залихватской смелостью. Теперь он был угрюм, замкнут и почти всегда один. От прежнего великолепия не осталось ничего, кроме густых черных волос, сросшихся бровей да некогда живых и ярких, а теперь холодных синих глаз. С Паулем он водился, хотя остальных соседей избегал. Они чувствовали, что одинаково смотрят на вещи. Германию ждет неминуемое поражение, а тогда конец и Гитлеру. Быть может, Пауль бессознательно искал в лице Шанца какую-то замену убитому сыну, правда, убогая замена — это существо с изувеченной жизнью. Но Пауль обходился с ним так, как не обходился и с собственным сыном. О живом он столько не думал. Он тревожился за молодого Шанца, как тревожился бы за сына, если бы тот вернулся с отчаянием в душе. Но сын не вернулся, и тревожиться о нем Паулю было не дано. Пришлось ему вместо сына внушать Шанцу, что если ему не придется уже свободно разгуливать по свету, то все же есть области, по которым можно странствовать и сидя на месте. Чем внимательнее юноша слушал, тем больше мыслей приходило в голову Паулю. Иногда, забравшись с головой под одеяло, они лежали в постели, где был спрятан самодельный приемник Шанца, и слушали запрещенные передачи из-за границы. Так как Шанц не мог подниматься по крутой лестнице на чердак, где жила его семья, жильцы великодушно предоставили ему сарай во дворе, куда раньше складывали инструменты.
Читать дальше
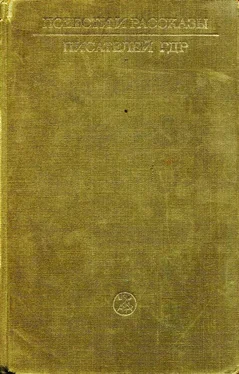









![Франц Фюман - Первый миг свободы [Рассказы писателей ГДР]](/books/414134/franc-fyuman-pervyj-mig-svobody-rasskazy-pisatelej-thumb.webp)