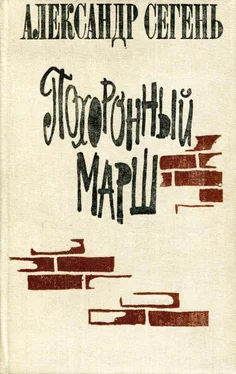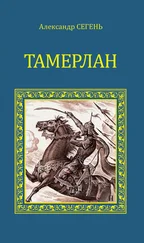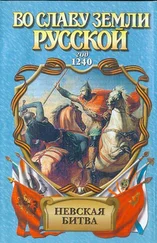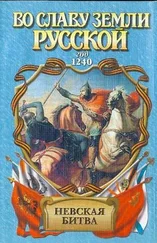Тетя Тося потащила нас сниматься. Увидев нашу компанию, дядя Борис как-то скомкался. Продолжая балагурить, он теперь уж не так энергично двигался, и глаза его наполнились брезгливостью к нам, к самому себе, к нефотогеничному глазированному пятну на Юриной рубашке.
— Тэк-с, дорогая соседушка, легко и свободно обнимите малолетних племянников, миг жизни уходит без следа, и лишь фотографии доступна вечность. Коля… или как там тебя? Алеша? Алеша, поплотнее к любимой тете и — улыбочку, улыбочку. Улыбочку, Алеша! Может быть, ты не умеешь улыбаться? Задорнее все трое! Ни с места!
В фотоаппарате чуть слышно треснуло, как потрескивают в костре дрова, и вот передо мной эта фотография. На фоне гранитного борта набережной Москвы-реки распластав по обе стороны руки, тетя Тося, которой с этой минуты доступна вечность, всем своим видом показывает, что она фотографируется по блату; мой брат Юра улыбается так, будто фотографирует его добытая в армии жена; а я, резко контрастируя рядом с легко и свободно, по блату, летящей тетей Тосей и моим осчастливленным с рождения братом Юрой, строго смотрю в объектив, смотрю с этой фотографии сейчас себе в глаза, словно хочу сказать мне, рассматривающему фотографию: «Мы с тобой — одно и то же, только ты ушел далеко вперед и продолжаешь неудержимо бежать под откос времени, а я остался навсегда маленького роста, навсегда под крылом обрыдлой тети Тоси, навсегда с ненавистью к мучителю Джильды во взгляде, навсегда с тяжелой ссадиной на подбородке, навсегда!»
Да, милый мой коротышка на фоне набережной Москвы, ты еще не знаешь и никогда не узнаешь, что мне суждено перерасти тебя, суждено многое радостное и горькое, чего ты не знаешь и не узнаешь вовек, оставшись навсегда перед оком объектива в возрасте девяти лет; фирма гарантирует а-атличное качество.
Когда начинает идти первый снег, ветка года с хрустом ломается и повисает на упругой ниточке последних дней декабря. Потом она обрывается, и жизнь ведет свой счет уже не последними днями, а первыми. В один из таких последних дней года, когда все события и явления уже свыкаются с мыслью, что им скоро предстоит стать прошлогодними, умер Борис Панков. Смерть эта была такой неожиданной и сверхъестественной, что в нее никто не мог поверить. Может быть, он и сам не успел понять, что происходит, когда вдруг что-то щелкнуло и хрустнуло и треснуло у него в голове, как потрескивают в костре дрова, и он почувствовал, что весь мир вращается вокруг одного его, а сам он стремительно падает не то вверх, не то вниз, не то сразу во все стороны. А может быть, это было не так. Может быть, он сразу понял, что умирает. Может быть, кто-то внутри него четко и ясно сказал ему:
— Хана тебе, Борис.
Он умер от внезапного кровоизлияния в мозг. Рано утром. После вчерашней выпивки. Моя мать Анфиса всегда потом по утрам говорила:
— Надо поскорее опохмелиться, а то окочуришься, как Борис — ни здрасьте, ни до свидания. Кувырк! И будете хоронить свою мамашу. Ну чё смотрите?
За две недели до смерти Панков в открытую, при стечении возмущенной публики выкручивал Джильде уши и щелкал ее по носу, а бедная псина визжала и предупреждающе клацала зубами, но укусить никак не решалась, что приводило мучителя в еще большее бешенство.
— Ну куси! Куси, сука! Даже укусить не умеешь. Что же ты за собака-то? Тварь ты слюнявая! Тьфу!
— Что ж ты делаешь-то, едиот? — возмущались старушки. — Чем же она провинилась, изверг?
— Ну кончай, Борис, — требовали мужчины. — Ну хорош! Ну что пристал к зверюге?
Из дому вышел Юра, и я, наспех размазывая по щекам слезы, побежал к нему и увел его обратно домой, чтоб он не видел этого ужаса. Когда я выбежал снова во двор, мучительство уже закончилось, Борис играл в домино, а Джильда тихо поскуливала с балкона.
И вот теперь он лежал в гробу с лилово-серым лицом, а тетя Нина стояла над ним в черном платке и покорно смотрела на крепко прижатую к груди руку покойника. На поминках дядя Витя Зыков совсем некстати вспомнил, как покойный всё в последнее время говоривал, что задумал что-то головоломное.
— Вот и поломал головушку, — вздохнул Зыков, поднимая стаканчик с прозрачной водкой. — Помянем Борю.
— Ты б хоть поплакала, легче б было, — сказала тете Нине мать Кости Человека, Тузиха.
Тогда тетя Нина вдруг набралась храбрости, взяла тоже стаканчик с водкой и сказала:
— Давайте уж еще выпьем за светлую память. Зла я на него не держу, а плакать о нем, извините, не стану.
Читать дальше