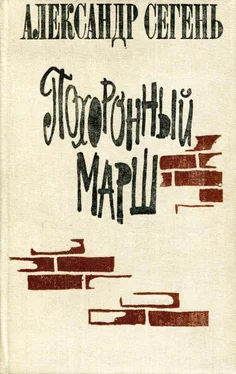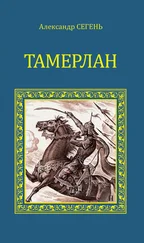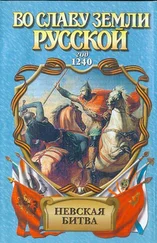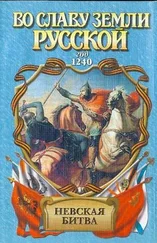— Давно пора, — говорила Фрося. — Дураку уже скоро тридцать лет будет, а все как дитя малое.
Ребята хохотали до ползания на четвереньках.
— Юр, а Юр, а какую ты в жены возьмешь, красивую или богатую?
— Хорошую, — отвечал Юра, расплываясь в улыбке идиота.
— А в армии же их нет.
— Как нет! Ты что! Есть! Ну чё ты лезешь? Чё ты чекочешься? Ну чё ты, дурак! Ма-ма! Ма! Ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы!
Мечты вслух всегда заканчивались отчаянным ревом. Юра бежал к нашей матери Анфисе и, мыча, уговаривал ее устроить так, чтоб его поскорее отправили в армию.
— А что тебе далеко ходить, — успокаивала мать. — Возьми вон лучше Лену. Не хочешь? Лену Орлову? Ну, не реви, не реви, поговорю с кем надо, чтоб в армию.
— В идиотские войска, — ворчала бабка, Анна Феоктистовна. — Тоже ведь придумал — в армию, невесту искать!
Юру всё никак не забирали и не забирали, и он, кажется, уже сам не хотел никуда уходить, а мечту о хорошей невесте лелеял уже ради самой мечты. Ребята дразнили его этим еще какое-то время, но дразнили не ради смеха, а так, от скуки. Юру раз в полгода водили в парикмахерскую и стригли очень коротко, почти наголо. Вот тогда-то обычно и вспоминали — что, Юр, в армию? Таким бритоголовым он виден на заднем фоне другой хорошей фотографии. Это уже год спустя после переезда к нам Панковых. А на переднем плане счастливейший в мире я сижу на Игоревом велосипеде и тянусь, тянусь сандалией левой ноги к нижней педали, закусив губу, потому что никак не могу дотянуться — куда там! еще сантиметров десять. Игорева рука, как рука всевышнего, поддерживает велосипед за седло, влезая в кадр со стороны.
Игорь был в то время звездой. Он занимался в велосипедной секции и готовился к гонкам. Никто не видел его ни на тренировках, ни на гонках, но уже то, что он всегда тщательно брил ноги, вызывало благоговейный ужас. Он говорил, что все велогонщики бреют ноги, иначе волосы будут мешать во время пробега, так как в них запутывается ветер, и еще есть опасность, что они попадут в цепь. Возвращаясь с тренировки, Игорь изящно подкатывал к подъезду, останавливался и долго демонстрировался во дворе, сидя в седле велосипеда, окруженный роем поклонников-малолеток, в числе которых был и я. Игорев велосипед собственно и не был велосипедом, не был великом, в наших глазах это был сам ветер, на краткий миг нашего детства воплощенный в комариной тонкости рамы, в упрямой, рогатой голове руля, в тончайших, как лезвия, колесах. И шины на тех колесах были не шинами — Игорь называл их трубками:
— Осторожней, трубку проколешь!
Кататься он, конечно, не давал. Но однажды его отец был в редкостном настроении, ходил по всему двору с фотоаппаратом наперевес и совершенно бесплатно на фоне осени фотографировал всех желающих. Сначала разменивался на старух и доминошников, запечатлел голубятню старого Типуна, а потом пустил Игоря по кругу нашего дворового почета. Тот легко, красиво и плавно, как могут только типуновские голуби, кружил по двору на своем оседланном ветре, а дядя Борис снимал его в самых чемпионских видах. И потом — королевский жест. Всем желающим было позволено сфотографироваться в седле Игорева велосипеда. Я толкался среди всех, чувствуя, что как ни толкайся, всё равно окажешься последним. Я топтался, подпрыгивал, ел свою нижнюю губу и, с трепетом поглядывая на велосипед, понимал, что он слишком огромен для меня.
— Ну всё, ну всё, хватит, — сказал вдруг дядя Борис, которому уже надоело снимать всех в одной и той же позиции, как в ателье.
— А я?! — взвизгнул я, чувствуя, как кровь во мне превращается в сплошную пену.
— Детям дошкольного возраста нельзя, — сказал официально дядя Борис.
— А я уже же в первом классе! — крикнул я с отчаяньем.
— Не врешь? Ну садись. Игорь, подержи этого шкета тоже. Сел? Тэ-эк. А что ж такой маненький? Смотри вот сюда, — два щелчка пальцами в воздухе. — Хэрэшо, оп!
В фотоаппарате сладостно хрустнуло, и я тоже был запечатлен. От того же дня осталась еще одна фотография. Когда дядя Борис, отсняв четыре пленки, уже собирался идти домой, густой сентябрьский воздух огласили хриплые, безобразные вопли:
— Все ждала и ве-е-е-е-е-рила, сердцу вопреки, — мы с тобой два берега у одной реки…
Пьяная моя мать Анфиса шла на своих уже начавших деформироваться от алкоголя ногах, кренясь и извергая звуки песни. Подойдя ко всем, она хоть и пьяная, а поняла, что Борис только что всех снимал. И тогда, криво подбежав к Нине Панковой, она обхватила ее сзади костлявыми руками и задорно скомандовала:
Читать дальше