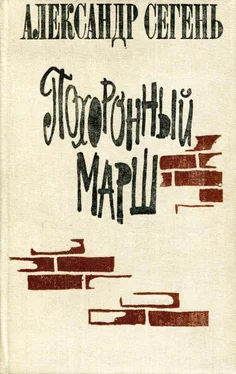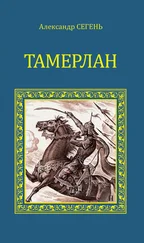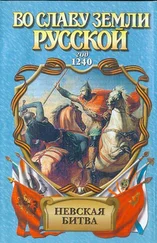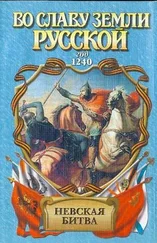Проснувшись, я увидел — кто это? — какой-то рыжий, плешивый стоит задумчиво у окна. Что он там видит в окне? О чем он думает, глядя на этот двор, который я видел двадцать лет и два года без него?
— Как там снег? — спросил я.
— Проснулся? Снег-то? Утром валил два часа. Я убрал.
Он убрал. Он — убрал! Смешно! Черт его дери! Двадцать лет и два года он мог убирать снег, вертеть руль и жать педали, чинить, клепать что-нибудь, дуть стекло, крутить гайки, шить пиджаки и брюки или собирать телевизоры и радиоприемники. Но вместо этого он только числился, что он есть, ломал ребра и совершал побеги, чтоб снова исчезнуть и чтоб сегодня убрать утренний снег.
Я встал, надел брюки, посмотрел в окно и сказал:
— Спасибо, отец. Ты уже завтракал?
— Нет, жду тебя. Иди умывайся. Я пойду чайковского заварю, колбаски пожарю с яичницей. Я колбасы купил. Кило за два девяносто.
Я не скажу, что мы плохо прожили с ним эти три с половиной недели. Нормально прожили. Как и полагается отцу с сыном. На третий день он устроился временно работать грузчиком, пока не подвернется работенка получше. Постоянно шли обильные снегопады, и отец помогал мне сгребать снег. По вечерам мы иногда подолгу разговаривали, он все расспрашивал меня, а сам говорил мало. «Да чего мне рассказывать», — отвечал он, когда я просил его тоже поведать о своей жизни.
Понемногу я стал привыкать к нему и уже мечтал о том, что он совсем изменится, а потом будет хорошим дедом для моих детей, не хуже других человеческих дедов. Вот он гуляет с моим сыном в скверике возле пруда, сын балуется, швыряет в голубей камешки, а дед Сережа увлекся разговором с другим каким-то дедом и рассказывает ему: «Да, я всю жизнь слесарил. Сначала на заводе Лихачева, потом на автостанции. Я на жизнь не в обиде. Всякое бывало, и хорошего было хоть отбавляй, да и плохим судьбинушка не обошла. А помнится-то ведь все равно только хорошее. Чего дурное-то помнить? С женой моей, супругой, значит, жили мы всю жизнь душа в душу, я ей ни одного срамного слова не сказал, да и она, Фисочка моя, никаких глупостей себе не позволяла. Разлучаться мы с ней никогда не разлучались. Поверите ли, как поженились в сорок девятом, так ни одного дня не выпало, чтобы мы с ней были не вместе.
Я, конечно, понимал, что если он когда-нибудь и будет гулять в сквере с моим сыном, то уж никак не примется все это и тому подобное рассказывать, а скорее всего, будет молчать и слушать то, что станут рассказывать ему. Ведь если он возьмется говорить всю правду о своей жизни и о своей жене Анфисе, то вряд ли найдется у него благородный слушатель. Хотя кто его знает.
Несколько раз отец просил меня взять у него те деньги, которые он якобы заработал честным путем сразу после освобождения, но меня эти деньги почему-то просто приводили в бешенство. Мне хотелось сразу что-нибудь разбить или ударить отца по голове сковородкой — так остро меня обжигала мысль о том, что он мог за два месяца заработать столько, а за двадцать два года моей жизни мы получали от него грошовые тюремные переводы. Правда, в пачке оказалось не пять тысяч, как я предполагал, а всего лишь полторы тысячи, но все же сумма значительная.
Несколько раз я замечал, что от отца пахнет спиртным. Однажды он осмелился и спросил:
— Леш, я тут портвешка купил. Может, дерябнем по маленькой за ужином? Как ты на это смотришь?
— Отец, я ведь, кажется, предупредил тебя, что не потерплю в доме пьянства, — ответил я. — Завтра отнеси бутылку на работу и дерябни там с друзьями. Но учти — пьяным домой не смей приходить.
— Да ты чего, чудак-человек, — заморгал своими рыжими ресницами отец. — Не хочешь, не будем пить сегодня. А послезавтра-то как-никак День Советской Армии. В армии мы с тобой оба служили. Неужто не отметим?
И мы отметили.
Это было за четыре дня до того, как он снова ушел в свое никуда.
Мы сидели в моей комнате, пили маленькими рюмочками крымский портвейн, и отец сказал:
— Леш, я тут вот вроде того как подарок хочу тебе сделать к Дню Советской Армии. Можно? Настоящий мужской подарок.
Он сходил в бабкину, ставшую на время его, комнату и вернулся с подарком. Это оказалась финка. Изящная, с горящим стальным лезвием синеватого оттенка и кожаной рукоятью. Вытянув ее из ножен, отец протянул финку мне. Я взял.
— Это я сам для тебя сделал. Давно еще, в прошлом году. Я и для начальника охраны в лагере делал, а он их охотникам продавал и всяким шаромыжникам, но те не то — те я наборные делал, дешевка. А эту я нарочно для тебя изготовил. С любовью, Леш.
Читать дальше