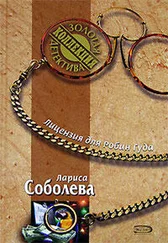Он рано вставал, куда-то шел, там долго что-то делал, сильно уставал, так что, возвращаясь, мылся, ел и валился в кровать, чтобы рано встать, куда-то идти, и там что-то делать, и если бы не это, то наверное вообще не вставал, что и происходило на выходных. Лежа на матрасах с внутренним ощущением получившего под дых – а физически наоборот укрепился, что было еще хуже. Не мог подумать ни бэ ни мэ. Способность к анализу покинула его. Слова ему изменили.
Потом постепенно прошло.
Прошло, но осталось.
Лесбия, эта толстая энергичная женщина, сошлась вновь с предыдущим мужем (неясно, был ли у них вообще оформлен развод) и уехала вместе с ним и со всеми детьми – видимо, туда, откуда явилась. Отремонтированная квартира стояла пустая. Потом она ее, наверное, сдала. А может быть, продала. Матвей туда не наведывался.
Прочие соседи все были на месте. Никто не развелся, не разъехался. Не подрался, не судился. Наоборот, завели себе пару (красавица и меломан, по отдельности). Матвей их мало видел (и не слышал – меломан вроде бы перенес музыкальный центр к невесте. – Впрочем, он использовал беруши).
В выходной позвонил московский журналист, собиравший бабло на «интербригады». Матвей ответил, что если бы хотел воевать, сам бы поехал, откупаться не станет. Журналист послал его на хуй. Матвей ответил, что уже там. Но журналист повесил трубку раньше, чем он ответил.
Порыв, обуявший многих пацифистов, обошел его стороной. Не то чтобы не хотелось всё бросить (да и бросать нечего) – но, постояв двенадцать часов со шпателем, он видел и ощущал себя фигурой глубоко штатской. То есть работа стала индульгенцией? Как и в тот раз, с пожарами? Когда Лесбия… Нет, о Лесбии ни слова. Да ладно, говорю же, прошло. Это не основание, чтобы пуститься в сражение, не поняв сначала, что с его плодами делать в миру.
Он думал про незнакомого ему Бабурэна. По крайней мере, вписать его мог с легкостью. Со всеми его женами и детьми. Дома он только спал. Деньги были. (Лесбия была бы, наверное, последним довольна. Лесбия…) Сначала, когда пустая квартира свалилась на него, как дубина (был такой случай на даче. Столб подпирал потолок. Высох и свалился. Он стоял, и получил сзади по балде. Никого в доме) – казалось невозможным вынести свое посланное в ментальный эфир приглашение. Чтоб гостей принимать, надо встать. Но теперь думал, да. Как ему там, в этом новом Крыму. Новые власти не подмели ли землю. На которой он сел самозахватом. Бабурэн стал его индульгенцией, вот что. А работа, ну, работа. Работа бывает всегда.
Во сне увидел Лесбию. Матвей спросил: «А кто отец Миши?» Во сне этот вопрос представлял насущный интерес. Лесбия, поведя плечом, ответила: клерк в «Яндексе». Матвей расхохотался и проснулся от своего смеха. Лесбии не было.
«Но они же не умерли», – подумал он.
Вы собираетесь идти дальше без меня?
Странно жить, да?
Ты проснулся рано этим холодным осенним утром, и теперь сидишь на стуле у окна, куришь, смотришь в окно. Шесть утра, может, семь. Проснулся от того, что захотелось курить. Ты должен был умереть в двадцать два года, а вот, дотянул до пятидесяти.
Ты должен был умереть, когда подружка всадила тебе в спину нож. Подружка, которую ты поднял до себя, сделал ее другом и возлюбленной. Она должна была защищать тебе спину. Тогда казалось, что ты и умер. Потом казалось, что продолжаешь умирать, только медленно. Жизнь вытекает, и нет способа это остановить.
Она живет в Москве, у нее двое детей. Лет им сейчас больше, чем было вам тогда.
За последующие тридцать лет с тобой не произошло ничего столь же значительного.
У тебя есть мать и отец. Ты их не видел где-то столько же, как и ее. Мать – чуть-чуть больше. Отца – меньше. Мать живет в маленьком белорусском городке типа Орши. «Возделывает свой огород», ха-ха. Отец – в столичном. Он до сих пор работает, хотя ему хорошо за семьдесят. Ты с ними не перезваниваешься и не переписываешься.
У тебя нет друзей.
У тебя нет детей.
У тебя нет денег. У тебя нет работы.
– -
Да, вот что еще забыла я. На лице у человека, сидевшего у окна, на скуле ближе к глазу. имелся потускневший и расплывшийся, но однозначно опознаваемый цветок из пяти лепестков, – который до сих пор, и это в эпоху повальных тату и пирсинга, создавал ему проблемы при входе в операционную (нет, не в операционную, но в операционную среду – типа Windows, но состоящую из людей). Я хочу сказать, что, будь он однорукий или одноглазый, это было бы не так заметно. Как раз из-за размытости, выдающей любительское, некоммерческое, происхождение, – я не знаю, не в курсе, чем там пользовались старослужащие товарищи, но явно не фирменными чернилами, – шутя свою шутку, призванную навесить на шутимого аляповатое клеймо, которое тот как минимум будет с материальными и психическими затратами выводить после демобилизации, – и которое, как то бывает с эволюционно закрепляющимися признаками, неожиданно сыграло в пользу мимикрии – из-за резко изменившихся условий. То была совсем другая эпоха, эпоха хипанов и неформалов, когда выход за конвенциональные границы —хоть бы и паспорт с грубой росписью «Свинья» поверх заштрихованной фамилии – приносил репутационные дивиденды.
Читать дальше

![Лариса Соболева - Последнее дело молодого киллера [= Лицензия для Робин Гуда]](/books/30801/larisa-soboleva-poslednee-delo-molodogo-killera-thumb.webp)