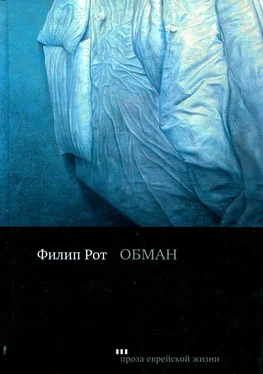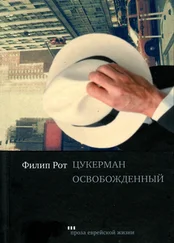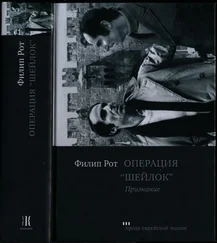— Ого, праведное негодование у лжеца, которого поймали с поличным! Кончай строить из себя праведника и не смей на меня орать — я этого не терплю! Попался с поличным и норовишь меня сбить с толку!
— Да я пытаюсь помочь тебе разобраться! Я в пример тебе привел Ивана и Олину. Когда Олина сбежала с тем негром, мы, Иван и я, пошли пообедать, что да, то да, и он рассказал мне обо всем, что между ними произошло, но и не думал обвинять меня в том, что я соблазнил его жену. Я никогда не пытался соблазнить его жену, никто никогда не обвинял меня в том, что я соблазнил его жену, кроме как в той записной книжке, которую ты прочла. В ней я пишу, что у нас с ней связь, потому что автору мало быть свидетелем событий. Во всяком случае, это не мой метод. Скомпрометируй «героя» книги, я не добьюсь цели. А вот скомпрометировать себя — другое дело. Чем больше я себя опорочу, тем колоритней будет обвинительное заключение. И доказательство тому — если ты мне все еще не веришь, — эта наша идиотская свара!
— Но с той полькой ты и впрямь познакомился на приеме у Дайаны. Ты сам мне рассказал. Вынужден был рассказать, когда она позвонила сюда.
— И что с того?
— У тебя с ней тоже был роман.
— Неужели? Тоже? Она прожила здесь всего неделю.
— Значит… в ту неделю. Роман нужен был позарез: ты просто шалел от ее неотразимого акцента. А эта американская девчонка со сдвигом — зачем она-то тебе понадобилась?
— Возьми себя в руки. Подумай.
— Это она думает — с ней и препирайся!
— Опять «она»… Кто на этот раз «она»?
Плачет: — Та, которой тридцать шесть.
— Давай возьмем записную книжку, идет? Сядем и полистаем ее. Если понадобится, обещаю объяснить тебе — в меру моего понимания, — строчку за строчкой: что на самом деле было. Расскажу, какие записи позаимствованы из моих разговоров с разными людьми, включая Розали Николс и ту польку, а также «американскую девчонку со сдвигом», — а какие нет, и они, между прочим, — большая часть того, что ты читала. Очень многое относится к моему роману с Розали, — еще до знакомства с тобой. Потом она вновь возникла — вместе с мужем, на Восемьдесят первой улице, они тогда переезжали из Англии. Неужели тебе никогда не приходило в голову, что она и есть та англичанка, чья Англия, а также брак, — послужили основой для прочитанных тобой записок? Слушай, ты их прочла — ладно, я не против. Если б я этого опасался, не бросал бы эту книжку где попало. Когда езжу туда-сюда, всякий раз беру ее с собой, потому что иногда ночью в спальне, — да ты же знаешь, — когда ты спишь, я сижу на стуле и сочиняю короткие диалоги с этой женщиной. И с другими женщинами тоже. Если учесть, что занимаюсь я этим в спальне, где ты спишь, разве что поэтому меня можно признать виновным в своего рода измене в несколько извращенной форме. Впрочем, я же не исключение, таких мужчин, которые, лежа рядом с женой, воображают других женщин — пруд пруди. Наверно, бывают и женщины, которые, лежа возле одного и того же мужчины, ведут себя так же непристойно. Разница между нами лишь в том, что я вынужден развивать и записывать все те непристойности, что я навоображал. Но есть и смягчающее вину обстоятельство: это — моя работа, мой заработок. А в фантазиях я, между прочим, изменяю всем, не только тебе. Можешь считать это чем-то вроде скорби, потому что так оно и есть — это своего рода плач по той жизни, которую я вел до тебя. Но уже не веду, живу, представь себе, так, как прежде полагалось жить женатым мужчинам, но уж позволь мне хоть чуточку потосковать по прежним повадкам. Поверь, такая тоска вовсе не противоестественна. А если ты наткнулась на записную книжку и она тебя очень огорчила, прости, мне жаль. И все-таки повторяю: то, чем ты меня попрекаешь, — всего лишь наивное и при этом абсолютно параноидальное толкование.
— Стало быть, — если не считать, что положено принять на веру, будто прототипом той женщины была англичанка, с которой сто лет назад ты закрутил в Нью-Йорке роман, — ее на самом деле нет, она лишь плод твоего воображения.
— И твоего.
— И с Олиной у тебя тоже никогда не было романа. Я должна и этому верить. А иначе получается, я не только параноик, но и хуже — наивная ханжа.
— Иван и так был в отчаянии, он и так много потерял — кроме Олины у него не оставалось ничего. Я не только на нее не покушался, но и он никогда меня в этом не обвинял. И ни разу не сказал, что писатель я никудышный. Позвони ему в Нью-Йорк, спроси. Позвони Олине, спроси ее.
Читать дальше