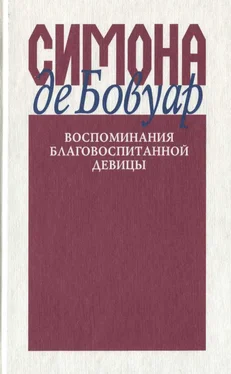Мне не нужно было, чтобы Заза испытывала по отношению ко мне те же чувства: меня устраивало положение ее лучшей подруги. Восхищение, которое я к ней питала, не принижало меня в собственных глазах. Любви чужда зависть. Для меня не было большего счастья, чем, оставаясь собой, любить Зазу.
Итак, мы переехали. Наша новая квартира по расположению и планировке напоминала старую, и обставили ее так же, только была она меньше и не такая удобная. Здесь у нас не было ванной, а лишь туалет; не было водопровода; раз в день отец выносил тяжелый сливной бак, стоявший под умывальником. Отопления тоже не было; зимой квартира промерзала, только в папином кабинете мама топила печку. В этом кабинете мне приходилось заниматься даже летом. Комната, в которой спали мы с сестрой — Луиза ночевала теперь на седьмом этаже, — была слишком тесной, чтобы там можно было находиться днем. Вместо просторной прихожей, в которой я любила сидеть, у нас был коридор. Встав утром с кровати, я не знала, куда деться; у меня не было даже стола, на который я могла бы сложить свои вещи. В кабинете мама часто принимала гостей; там же она беседовала с отцом по вечерам. Я научилась готовить уроки под шум голосов. Хуже всего, что мне негде было уединиться. Мы с сестрой завидовали другим девочкам, у которых были отдельные комнаты; наша комнатушка могла служить не более чем спальней.
Луиза нашла себе жениха; он был кровельщиком. Однажды я застала их на кухне: она неуклюже сидела на коленях у рыжеволосого мужчины; кожа у Луизы была белая, щеки у кровельщика — пунцовые. Не знаю почему, но мне вдруг сделалось грустно. Луизин выбор, тем не менее, одобрили: ее суженый, хоть и был рабочим, но мыслил вполне благонадежно. Луиза от нас ушла. Ее сменила Катрин, юная, свежая и разбитная крестьянка, с которой я когда-то играла в Мериньяке. Мы с ней были почти подружки, но по вечерам она «гуляла» с пожарными из казармы напротив. Мама взялась было читать ей нравоучения, потом рассчитала ее и решила, что обойдется вообще без прислуги, потому что папины дела шли все хуже. Обувная фабрика зачахла. Благодаря протекции дальнего, но влиятельного родственника отец стал заниматься «финансовой рекламой»; сначала он служил в «Голуа», затем в других газетах, но заработок его был невелик, а работа скучна. Чтобы развеяться, он стал выходить по вечерам: играл в бридж у друзей или в кафе; летом целые воскресенья проводил на скачках. Мама часто оставалась одна. Она не жаловалась, хотя терпеть не могла хозяйство и плохо переносила бедность; она сделалась крайне раздражительной. Постепенно и отец утратил свой ровный характер. Всерьез родители не ссорились, но громко кричали по любому поводу; нам с сестрой тоже нередко доставалось.
Перед взрослыми мы с Пупеттой держались очень сплоченно; если кто-то из нас опрокидывал чернильницу, то вина считалась общей и наказание мы принимали вместе. И все же отношения наши изменились с тех пор, как моем классе появилась Заза. Я души не чаяла в новой подруге. Заза надо всеми смеялась; не щадила она и Пупетту; она называла ее «малявкой», я за ней повторяла. Сестра реагировала болезненно и начала противиться моему влиянию. Однажды, сидя в папином кабинете, мы поругались, и она заявила трагическим голосом: «Я должна кое в чем тебе признаться!» Открыв учебник английского и водрузив его на розовый бювар, я уже собиралась погрузиться в изучение урока, поэтому едва повернула голову. «Так вот, — сказала сестра, — мне кажется, я люблю тебя меньше, чем прежде». Спокойным голосом она принялась объяснять, насколько охладело ее сердце; я слушала молча, но по щекам у меня катились слезы. Сестра вскочила. «Это неправда, неправда!» — воскликнула она, бросаясь мне на шею. Мы обнялись, и я вытерла слезы. «А знаешь, — сказала я, — на самом деле я тебе не поверила!» Тем не менее ее признание было почти что правдой; она начала восставать против своего положения младшей, а так как я от нее отвернулась, то бунт ее был отчасти направлен и против меня. Пупетта училась в одном классе с нашей кузиной Жанной; Жанну она любила, но вкусы ее не разделяла и была недовольна, что ее заставляют общаться с Жанниными подружками. Это были пустые и претенциозные девочки, сестра их не выносила и злилась, что их считают достойными ее дружбы; только никто не обращал на это внимания. В школе Дезир Пупетту продолжали считать бледным и несовершенным подобием старшей сестры; порой это было унизительно. Про нее говорили, что она высокомерна, поэтому все мадемуазель, считая это тонким воспитательным приемом, изо всех сил старались еще больше ее унизить. Ссылаясь на то, что я умнее и сообразительнее, отец занимался больше со мной. Пупетта не переняла моего обожания к отцу, но страдала от предвзятости его суждений. Однажды летом, в Мериньяке, пытаясь доказать, что ее память ничуть не хуже моей, она выучила наизусть перечень всех Наполеоновских маршалов с именами и титулами; она отбарабанила их одним духом — родители в ответ только улыбнулись. Дойдя до отчаяния, она стала ловить мои промахи. Меня злило, что сестра, хоть и робко, но осмеливается соперничать со мной, критиковать меня, не слушаться. Ссорились мы с ней всегда, потому что я была резка, а она плаксива; теперь она плакала реже, но размолвки наши стали серьезней: в них было замешано самолюбие; каждая хотела, чтобы последнее слово осталось за ней. Правда, в конечном итоге мы всегда мирились: мы были нужны друг другу. Наше отношение к учителям, подружкам, родителям совпадало; мы ничего друг от друга не скрывали и по-прежнему любили играть вместе. Когда вечером папа с мамой уходили куда-нибудь, мы ликовали: мы готовили пышный омлет и съедали его на кухне, потом с гиканьем переворачивали вверх дном всю квартиру. А поскольку спали мы теперь в одной комнате, то уже лежа в кроватях подолгу играли и разговаривали.
Читать дальше