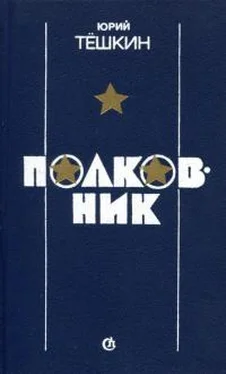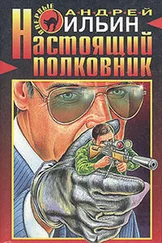— И как ты это все понимаешь, Петр?
— А я, Паша, так понимаю, что за эти тридцать лет власть у нас потихоньку опять богатенькие захватили. Произошел всего-навсего тихий бескровный переворотец. Ну а сейчас они, те, что все черной краской мажут, и пытаются легализовать как-то сей переворот. Гляди, как миллионы открыто в кооперацию потащили. А ведь теперь никто не мешает ворованные миллионы пускать в собственное дело.
— Но ведь действительно, Петр, экономика дошла до ручки и даже эти, пусть и наворованные у народа миллионы хоть какую-то пользу принесут. Народ получше заживет, а?
— Заживет. Процентов на десять, на двадцать, сами же миллионеры на все сто процентов заживут!
— Плюрализм.
— Эх, Паша, какой плюрализм?! Мы же не Франция. В стране, в которой одна половина и выговорить-то правильно этого слова не может, а другая половина и смысла понять его не в состоянии, — какой плюрализм!
— А богатые-то уже есть у нас. И бедные, и богатые опять.
— В том-то и дело, что, Паша, опять! И это страшно. Кровью пахнет, Паша, большой кровью… Тебе не страшно, брат?
Да нет, полковнику не страшно, он ведь себя от народа не отделяет. Народ мудр, как он решит, так и правильно. Да, народ пьет, работает спустя рукава, быть богатым, несмотря на все призывы, никак не хочет. Но уж если он узнает всю правду о тихом переворотце, нет, не завидует полковник богатеньким. Ему за Раю только страшно, заблудиться во всем этом сегодняшнем вполне можно. Ей-то наверняка кажется, что это обновление-перестройка, с ее молодостью совпавшее, явление исключительное, как и ее собственная исключительная молодость. Года и года пройдут, пока уяснит она главное — все повторяется. Застой — обновление — опять застой… Если бы она видела, как в Индии в свое время встречали Хрущева, засыпали белыми цветами! Если бы она знала, какие надежды все связывали с приходом мужественного генерала Брежнева… Если б она знала, как вдохновляло солдат на фронте в тяжелую минуту, что Сталин с ними, что Сталин Москву не покинул… Или взять тот невероятный факт, что отказался обменять сына Якова на их генерала.
…Полковник шел тогда окопами на НП, сам слышал, как какой-то щупленький, на Гурова похожий солдатик, из тех, еще не обстрелянных, переживающих, рассказывал таким же необстрелянным: «Братцы! Так и рубанул им — гадам! Я, мол, простого солдата на вашего генерала никогда не променяю! Вот что для него простой солдат!» Ну так мог ли после этого не воевать простой солдат! Мог ли не приветствовать страшного приказа за номером двести двадцать семь! А кто мог отдать такой страшный приказ? Кто имел на это страшное право? Да только он — человек, пожертвовавший собственным сыном!
Ну а Рае еще долго, долго расти до этого кровного понимания, еще собственного сына или дочку воспитать надо… еще время и время пройдет, пока поймет, как оно слезами, сердце, обливается за свое родное-кровное.
Непонятно, чего хотелось полковнику напоследок. И уж, конечно, не речей хотелось. Их скажут… в свое время. Торжественности тоже не хотелось. Или уж если торжественности, то особой. Ибо само состояние перехода из чего-то (что представляет сейчас собой полковник, пусть и больной, и дряхлый, а все же) — в ничто было до того поражающим воображение, что цепенеет полковник с головы до ног, пронзенный этой метафизикой. Страха нет, он же солдат. Просто все цепенеет в нем среди бела дня или черной ночи. И будто видит он тогда сквозь цепенеющую вместе с ним природу, как гигантские ножницы быстро-быстро стригут вроде бумагу. А на той бумаге слова: «Рая, Рая, Рая…» Исподволь, осторожно, как пескарь дотрагивался, когда опускал в детстве ноги в прозрачные воды речки Каменки, подходила и отходила тихонько мысль: «Почему не погиб я геройски, как первый командир Петр Семенович под Попельней, или как начальник штаба Приходько, как Степа Мотыль, сделавший последний свой шаг пошире полковничьего, или как многие, многие другие, с кем породнился, о ком болело сердце, места душа не находила, когда погибали». Сколько раз мог и сам погибнуть полковник, а вот уцелел, живет. Зачем? Маятник в часах над политической картой мира и тот живее полковника. Можно еще потянуть с этим… Встать, одеться, с бесконечными остановками, стонами, кряхтением спуститься на лифте, перейти через двор… Грелки, компрессы, примочки, а главное — доброта Нины Андреевны… можно, можно еще потянуть… Вероятно, придется сделать тогда какие-то распоряжения у нотариуса, что-то написать, заверить, как-то отблагодарить… ох-хо-хо, как это все утомительно… Тут опять подумалось о явной перемене в Нине Андреевне, что-то произошло наверняка. Должно быть, почти с полной потерей ощущения собственной плоти полковник обострился весь, всеми клетками чует — произошло. Что-то важное, непонятное — произошло.
Читать дальше