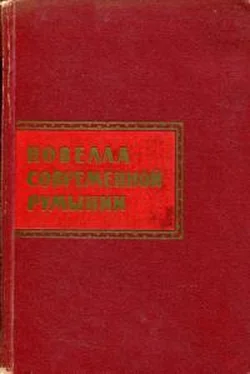Но кто же виноват, что я даром потерял целый день? Я сам? Может, я не умею правильно использовать время. Я все-таки думаю, было бы лучше, если бы меня оставили в покое до окончания жатвы. Чтоб не звонили мне по телефону, чтоб не донимали меня разные инспекторы! Чтоб не отрывали меня и дали возможность заняться хозяйством. А как закончу уборку — пусть все наваливаются на мою голову! Это другое дело. Тогда пускай делают со мной что хотят. Тогда я буду встречать их с хлебом нового урожая.
Вот такие дела, товарищ секретарь. Прости меня, ежели я оторвал тебя от дел, но, сам знаешь, я только в райкоме успокою свою душу. Мог ли я не зайти к тебе и не рассказать о своих напастях? Знаю, что отсюда я выйду с новыми силами. Будь добр, который теперь час?
Перевод с румынского П. Павлова.
Молдавский фронт проходил по гребням бесконечных отлогих холмов, опустошенных войной, выжженных солнцем. Налево от наших позиций брустверы тянулись насколько хватало глаз в сторону Хелештиень и поймы Серета, а направо их извилистая линия поднималась к Тыргу Фрумос, шла вдоль железной дороги прямо к Подул Илоий и Яссам. Кругом вся земля была изрезана траншеями, разворочена снарядами, испещрена глубокими желтоватыми окопами, где временами сверкала на солнце сталь штыков.
Долина между нами и советскими частями, которые окопались на возвышающихся перед нами холмах, была нейтральной зоной — пустынный и проклятый порог смерти. Охранялась она надежно; птица и та не осмелилась бы пролететь над ней.
Стояло сухое жаркое лето. Воздух накалялся, едва всходило солнце, и лишь к вечеру наступала легкая прохлада. Хлеба у подножья холмов пожелтели у нас на глазах и понемногу осыпались. А в низине близ реки они взошли вторично и поднимали свои зеленые стебельки, тесно сплетаясь с повиликой и осотом. На хилой кукурузе с сухими, скрученными в трубку листьями торчали тонкие и жалкие недозрелые початки. Земля под ногами рассыпалась, ветер поднимал облака белесой глинистой пыли, оседавшей на холмах и окутывавшей позиции. Ужасы войны и засуха проклятием висели над этим краем в тот август 1944 года.
— Наказанье божье, — пугал нас Чоча, один из бойцов нашего отделения. — Вот оно, светопреставление!
Когда бушевал яростный ветер, застилая воздух пылью, жадно высасывая влагу из земли и сжигая нивы, он, Чоча, сгорбившись в глубине ямы, начинал креститься и бормотать молитвы. Он делал то же самое, когда свирепствовали русские пушки и «катюши», частым стальным дождем поливая наши позиции слева и справа. Тогда он доставал и читал синеватую засаленную книжицу, подаренную ему одним из священников, которые все чаще показывались на передовой, держа в одной руке большой серебряный крест, а в другой — посох и думая лишь об имуществе, оставленном за линией фронта.
— Чоча, помолись и за нас! — кричали мы ему с усмешкой.
А он, обидевшись и прищуривая глаза, угрюмо оглядывал всех, затем, как в исступлении, снова начинал молиться, забывая обо всем на свете. Никто не мог вырвать Чочу из оцепенения, пока не кончался налет или не стихала буря. Его круглые, бесцветные глаза оживлялись и мерцали каким-то внутренним, непонятным для нас светом.
— О чем ты больше всего молишься, Чоча? — спросил я его недавно.
— Сам знаешь, — прошептал он, с опаской посмотрев кругом.
С того дня Чоче было поручено доставлять на передовую воду, еду и боеприпасы. К обеду я собирал фляги шести бойцов, оставшихся в моем отделении, продевал сквозь ручки ремень и передавал связку Чоче. Он забрасывал их на плечо и, пройдя по траншее, сворачивал в кукурузник, начинавшийся за нашими позициями.
В низине за холмом, позади наших позиций, где змеилась линия фронта, в ракитнике стоял колодец с журавлем. Около него толкались в очереди за водой посыльные всех румынских и немецких частей, скопившихся на участке в несколько километров. Иногда, чтобы добраться до воды, пускали в ход локти и брань. Поэтому Чочу отправляли до обеда, когда народу было меньше, да и вода почище. И все-таки последние дни то, что он приносил, скорее напоминало грязь, чем воду. В глубине колодца иссякли родники, днем и ночью высасываемые сотнями и тысячами людей. Иногда мы оставались и без воды, так как Чоча был неповоротлив и его всегда опережали другие. Я уже думал, как бы сменить его и послать за водой другого, но нас осталось слишком мало, и трудно было кого-нибудь подобрать: у каждого имелось свое задание в боевом расчете отделения. Впрочем, лучше, что его не было с нами. Своими причитаниями и поклонами во время боя он только мешал бы нам, лишая нас мужества. А это могло довести нас до военного трибунала.
Читать дальше