Если я заказывал один блинчик с нутеллой и взбитыми сливками, Пакита делала мне два. Ее не тревожило, что у меня уже образовались складки вокруг талии. А когда я вяло пытался протестовать, она непререкаемым тоном заявляла: «В твои годы надо есть досыта!»
С Насардином у меня не бывало долгих бесед, но я привязался к нему: даже отец за те двенадцать лет, что мы прожили вместе, не смог стать мне ближе и родней.
Он научил меня считать по-арабски – вахед, а тнейне, тлета, а рабха… – и давал мне читать путеводители из своей коллекции.
– Понимаешь, ваш фургон был единственным местом на земле, где со мной ничего не могло случиться, где я забывал про обратный отсчет времени.
Насардин высморкался и утер слезу.
Он говорит:
– Это из-за нового табака… Не знаю, что они туда кладут, но у меня от него аллергия.
Насардин редко рассказывал о себе. И не потому, что был скрытен или застенчив: просто он не представлял, что его персона может кого-то интересовать.
А я находил его потрясающе интересным. Это был первый иностранец, с которым я познакомился, и единственный, с кем я мог поговорить. Мне было семнадцать лет, и я еще ни разу не покидал Францию, более того: никогда не выезжал из региона и департамента, где родился. Я хотел знать о Насардине все, потому что он прибыл из другого мира, совершенно не похожего на мой. Я изводил его бесконечными расспросами, а он терпеливо отвечал.
Он уехал из Алжира, когда ему не исполнилось и девятнадцати, оставив там родителей, четверых младших братьев и сестер, а еще кузину Далилу, предназначенную ему в жены. Оставил деревню в глуши, глинобитные домики и стада коз. Слушая его, я словно видел перед собой раскаленную от зноя пустыню и необъятный простор, кожей чувствовал нестерпимо горячий воздух и обжигающий вихрь песчаной бури. Он рассказывал о проливных дождях, которые наполняют русла пересохших рек и смывают дома и мне чудилось, что это меня подхватили и уносят грязевые потоки. Насардин завораживал меня. Все, что я узнавал о его детстве, было необыкновенным, ярким, впечатляющим, таким непохожим на мои собственные детские воспоминания. Как мне хотелось, чтобы у меня были такие же черные глаза, смуглая кожа, чтобы я свободно говорил на языке, слова которого произношу с таким трудом.
Насардин приехал во Францию в поисках работы. После приезда распаковал свой старый чемодан – и с тех пор больше к нему не прикасался. Но в душе он был странником.
У настоящих путешественников тяга к странствиям не исчезает в течение всей жизни. Даже если они давно остепенились и сидят на месте, для них всегда открыт выход на посадку в самолет или распахнута дверь вагона – пусть только в воображении. Все их имущество умещается в двух дорожных сумках. У Насардина практически ничего нет, если не считать коллекции путеводителей, которую он постепенно пополняет свежими изданиями, не избавляясь от устаревших.
Когда мне было двадцать три или двадцать четыре года, одна девица, принявшая меня за поэта – очевидно, ее ввели в заблуждение очки, которые я носил по близорукости, и мои неряшливые дреды, – дала мне почитать повесть Алессандро Барикко «1900-й».
Давно забыл, как выглядела девица и как ее звали. Я даже не сумел воспользоваться ее ошибкой, чтобы попытаться ее соблазнить.
Но я был в восторге от этой книги, от истории о пианисте, который ни разу не сошел на берег с парохода, где родился, и тем не менее знал о мире все просто потому, что умел «читать людей» и «понимать все те знаки, которые они несут на себе и которые рассказывают о местах, о звуках, о запахах, об их родине, о всей их жизни…».
Помню, читая эту повесть, я подумал о Насардине. В моем представлении у пианиста были такие же курчавые волосы, такая же физиономия старого араба с щетиной на подбородке. Его руки на клавиатуре были похожи на руки каменщика, а рядом на рояле всегда стояла чашечка крепкого кофе.
И я вспомнил тот день, когда Насардин впервые заговорил со мной о путешествиях, – зимний день, такой же холодный, как сегодняшний. Я был в джинсовой куртке, слишком узкой в талии (как и вся моя одежда), и трясся от холода. Пальцы так закоченели, что я с трудом вытащил из кармана мелочь, чтобы заплатить за блинчик с шоколадом.
Насардин поманил меня к себе. Я смотрел на него непонимающим взглядом.
Он открыл заднюю дверцу фургона и сказал:
– Залезай!
Уже несколько месяцев я каждый или почти каждый день подходил к фургону и заказывал блинчики, но он еще ни разу не приглашал меня внутрь. Я залез – и мне стало жарко: помимо раскаленных сковородок, в фургоне был включен маленький обогреватель.
Читать дальше



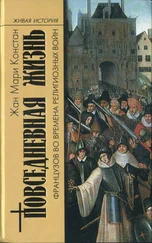

![Мари Дарьессек - Быть здесь – уже чудо. Жизнь Паулы Модерзон-Беккер [litres]](/books/385129/mari-daressek-byt-zdes-uzhe-chudo-zhizn-pauly-moderzon-bekker-litres-thumb.webp)






