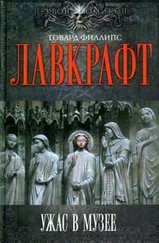Остерман плюхнулся на стул, его осенило, что статья вроде как принята. А зачем бы его тогда вызвали? Но последний вопрос снова вогнал его в краску — на этот раз от удовольствия.
Он сделал великодушный жест, полный скромной гордости:
— Я пишу не ради материальной выгоды. Доверяю вам самим определить гонорар.
Редактор опять молча впился в него пристальным взглядом.
— У вас есть судимость? — неожиданно спросил он.
Остерман лишился дара речи. Уследить за скачками мысли собеседника было превыше его сил.
— Вы видели фарс «Партия Клабрии»? — последовал следующий вопрос. — Были у Херрнфельда на Александерплац?
И эти вопросы не имели никакого отношения к теме.
— Никогда! — решительно замотал головой Остерман. — Я не посещаю подобные заведения!
— А напрасно! Это ваша обязанность, если желаете изучить евреев. Я каждую пьеску смотрю по меньшей мере три раза! Прусская верность долгу! Там один посетитель кафе спрашивает: «Как думаете, что я получу за этот сюртук?» А другой благородный единоверец отвечает: «Год тюрьмы…» Три месяца получите за вашу статью!
Остерман в ужасе вскочил.
— Сидите, сидите! Надо постепенно привыкать сидеть. Еврейский гнев разгорается, и всех нас посадят в Моабит. Но это ничего. Давно пора! Поношения от разных религиозных сборищ, шумиха, рецензии и экспертиза, судебные повестки — дело известное! А в результате еще и Эмма огребет кучу денег, так что сможет наконец «урвать» себе вымечтанные шелковые сорочки. Вот уж Исраэль порадуется!
— Израиль? — пришел в замешательство Остерман.
— То бишь Н. Исраэль с Шпандауерштрассе. Что, не предполагали подобного эффекта от вашего явления в литературу? Лавр, он, знаете ли, колючий!
— Я думал… ничего такого… А кроме того, я не хотел, чтобы моя фамилия…
— Да ну? Не-ет, драгоценный мой! Чтобы я расхлебывал за вас кашу? Дурная затея! Нечего увиливать!
Остерман схватил рукопись.
— Я отказываюсь от публикации! И не из трусости! У меня свои резоны! Я просто не могу засветить свое имя! И потом… я себе вообще все иначе представлял!
Невольно он снова скользнул взглядом по двери в соседнюю комнату.
— Ах ты, юнец в сюртуке добродетели! — вздохнул Шлифаке, вставая. — Я-то, как только он появился на горизонте, срочно отпустил с колен чертовку Эмми и к нему — как к честному благонравному рыцарю без страха и упрека… Подождите-ка! Вами сейчас же займутся…
Он открыл заветную дверь и заревел в проем:
— Кардинал! Не потрудится ли ваше высокопреосвященство!
На пороге обозначился вызванный дух, только расточал он не благоухание святости, а выдержанный запах перегара. Дух оказался приземистым, довольно корпулентным господином в засаленном сюртуке. Сальными казались и его короткая, едва выбившаяся над черной косынкой шея, и плохо выбритая безбородая физиономия со вздернутым носом и круглыми очками. В общем и целом его выход напоминал явление духовного лица, особое сходство придавала лысина в виде тонзуры, венчавшая череп. Двигался он неторопливо и с какой-то торжественностью, речь текла размеренно и елейно.
— Кардинал, я свое сделал, делай и ты свое! — ухмыльнулся доктор Шлифаке. — Это дитя, чистое как ангел, тот самый кандидат Остерман, который жаждет нас сексуально просветить на предмет еврейства. И ведь что надумал: он так миленько помаячит на заднем плане, а мы за него отдувайся!
Кардинал озабоченно покачал головой.
— Помимо этого его оскорбил вид Эмминых икр и до некоторой степени смутило то, как я держал чертовку на коленях. А кого я, черт возьми, должен сажать на колени? Святую консисторию? Так что остальное на ваш вкус, Гессе. Приятного аппетита!
Редактор уселся за свой письменный стол, заново набил трубку и отключился от происходящего.
— Да, — ласково улыбнулся Кардинал. — Подчас с нашим добрым доктором бывает тяжеловато. Не берите в голову, мой юный друг! Судите о нем по статьям — в них его подлинная душа. Что цепляться к мелочам! Мы все состоим на службе у великих идей, не правда ли? Величайших! Истина, отчизна, народ. Согласны, мой юный друг?
— Конечно, само собой, — пролепетал Остерман. — Именно поэтому…
— Итак, — подвел Гессе черту, как будто этим все сказано, и посмотрел на Остермана так, словно тот нанес ему обиду своим целомудренным поведением и тем самым дал повод к порицанию. — Ну ладно, теперь по существу. Что есть «частное»? Что есть «я»? Все определяется великим общим делом! Кого должно интересовать, есть ли у нашего друга свои маленькие слабости? Или кому какое дело, если я, например, напиваюсь до спотычка каждый вечер? Какая мелкая душонка озаботится сим фактом? Кто из нас столь заносчив, чтобы принимать рутинную частную жизнь за нечто значительное? Значимо только то, что мы пишем! Это расходится по миру и встряхивает вялые умы! «По плодам их узнаете их»! Кто будет спрашивать, каким навозом удобряли почву, дающую плоды, из какого сора произрастают прекраснейшие деревья? Не судите по наружности!
Читать дальше